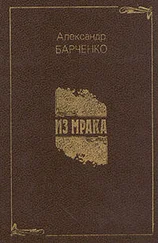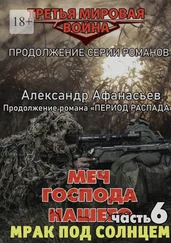Меня пугал большой мир, мир, в котором я не знал никого и в котором никому не было дела до меня. Я не был уверен, что я хочу туда – в этот мир, мир, который плевал на мои страхи и мои надежды, мои мечты и мои опасения. Мир этот не ощутил горнила августовской жары, через который я прошел. Мир этот не был заклеймен огнем беженства, жаром метаний между гусеницами танков и рокотом самолетов. Мир этот пугал меня, в нем все было чужим, и я в нем был чужой, и все мои воспоминания, хотя и нерассказанные, уже были покрыты пеплом забытья. Я собрал всю свою храбрость, поскольку гнал меня страх еще больший, чем неизвестность этого мира – ужас собственного сумасшествия, ужас того, что я превращусь в живого мертвеца, такого, как живущие в санатории старики, как бывшие офицеры с их поблёкшими женами и старообразными детьми. Я испугался бездны каждодневного безделья, испугался собственной пустоты. Поэтому я все, что мог взять с собой, сложил в вещмешок существовавшей когда-то армии, надел полученную чужую одежду, которая лежала в вестибюле и собиралась для нас, оставшихся без своих вещей и вынужденных копаться в чужих обносках, выискивая более теплые и менее поношенные вещи. Причесался в коллективном санузле, который, как ни посыпали его хлоркой и мыли, всегда пах чужой физиологией, мочой и стыдом. Побрился, чего не делал давно, хотя ранее брился каждодневно. И чистый, побритый, серьезный и очень неуверенный в себе перешел рубикон наших ржавых ворот и… едва не повернул назад, когда обернулся и не увидел из-за густых деревьев парка нашего санатория, нашего печального, как и мы, здания с жестяной, в заплатах, крышей. Смешного бетонного уродца конца шестидесятых годов с ровной крышей, где собиралась вода, доставляющая много хлопот. И, глядя на это несуразное здание, я вспомнил, что когда-то умел строить: умел класть кирпичи и месить бетон. Этому меня научил мой отец, занимавшийся этим всю жизнь, мой отец, чьи черты лица я даже не помню точно, поскольку их всегда скрывал толстый слой известковой пыли, цемента и песка. И я пошел в город, пошел к людям, которых боялся, боялся их количества, их энергии, боялся улиц, таких многочисленных и переплетенных, что я не знал, где они начинаются и куда водят. Наш друг рассказывал свою историю, облегчая свою душу, на которой скопилось много груза, тяжелого груза, который он не мог нести в одиночку, и мы знали, что он говорит истину, поскольку голос его, тихий и неуверенный в начале, окреп. Это был голос человека, понявшего, что надежды нет и ложь – бесполезна.
– Я искал в том большом и чужом мире знакомые лица. Я уже сожалел, что не вижу привычных лиц наших стариков и детей, тех знакомых серо-бледных лиц, от которых я ушел и которым уже не смел вернуться, и, если бы вернулся, то сломался бы окончательно, утонув в обманных снах и алкоголе, который бы через мои поры выдавливал из меня кошмары. Неуверенно и осторожно ходил я улицами города и пытался по фигуре, по движению, по жестам, по выражению лица найти того, кто бы мог понять меня, пришел мне на помощь, кто мог понять меня, кто помнил жару того августа. И не находил. И не нашел. Но мне удалось все же выжить в этом мире, который высокомерно морща нос, все же принял меня, научил меня терпеть, научил меня молчать, научил не бояться.
И я понял, что мир этот никогда не будет моим полностью, но в нем можно жить. Хлеб я себе зарабатывал не столько трудом, сколько желанием жить, упорным желанием и силой, которая во мне еще осталась, которая еще жила в моих руках и плечах, в моем теле, за которое я был спокоен, не так как за разум, который, как думаю, частично остался там, где-то на поле, между танками и тракторами, между одними руками, которые дарили нам свежеиспеченный хлеб, и другими, которые продавали нам водопроводную воду. Мир окружающий меня, никак не желал становиться более понятным, никак не желал приоткрыться мне, хотя я большим самоконтролем все же убрал привычный для моих мест акцент.
Я был внимателен каждый раз, когда нужно было что-то сказать, я сначала проговаривал предложение в уме. Началось это тогда, когда я в одном магазине попросил буханку хлеба. Продавщица с искусственными кудрями и с нарисованными помадой оладьями губ, поправляя золотой крестик на вялой груди, сказала мне, растягивая слова, наслаждаясь возможностью унизить, что у них нет буханки (ха!) хлеба, а есть батон! Батон! Вкус того хлеба я помнил долго и никогда больше не вошел в тот магазин. И еще я дал себе клятву – что рано или поздно я стану частью этого чужого мира. Я научусь говорить на их языке. Вода поднималась все выше, голос нашего друга звучал все уверенней, но кроме него не слышно было ничего – ни гула машин, ни криков ищущих нас людей. – На стройке, где я работал, звучал мой язык: звучал мой, привычный мне акцент, где звук «е» передавалось лихим «ийе», а не долгим тяжелым для меня «э», и я почувствовал, что вернулся домой. Или не домой, но туда, где мне все знакомо, здесь не было горечи воспоминаний, здесь не нужно было тонуть в снах и фантазии, я решил не обольщаться прошлым, стать частью новой жизни, а не рабом воспоминаний и снов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу