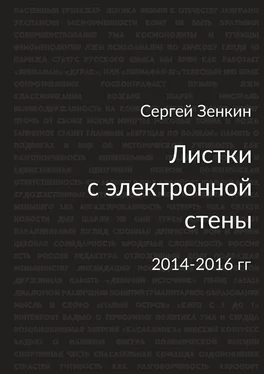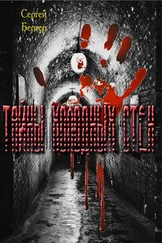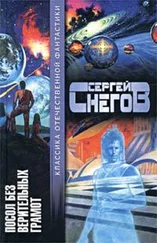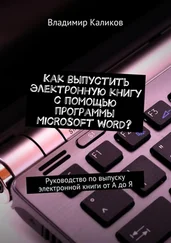Одна дама дважды убежденно повторила, что у Барта «рождение читателя оплаКивается смертью автора». Другая тоже очень настойчиво утверждала, что реальный пейзаж из романа Флобера — на самом деле нарисованный и висит на стенке. Третий специалист пенял покойнику за недооценку реализма: в самом деле, сейчас-то все снова интересуются мимесисом, а значит и реализмом, разве не так? Заглянувший ненадолго начальник поделился своим общим опытом с РОланом (sic) Бартом: тот анализировал стриптиз — я тоже насмотрелся всякого такого, тот писал о вине и молоке — мы вот тоже с коллегой съездили в Париж, похлебали того и другого. Упомянутый коллега (также руководящий товарищ) в своем выступлении критиковал перевод одной статьи Барта, тщательно избегая, во-первых, предлагать какие-либо свои варианты, а во-вторых, называть имя напортачившего переводчика; эта анонимность странно контрастировала с его общей возвышенной концепцией, согласно которой переводчики — художники, ибо мыслят образами.
В данном случае «художником» являлся я сам, хотя образами мыслю не больше других. Сидя в зале неузнанным шпионом, я уже наслушался к тому времени, как исследователи цитируют мои переводы из Барта, нещадно их перевирая («оплакивается» вместо «оплачивается») и забывая указать не то что переводчика, но даже название текста: «Барт говорил…» и все тут. А что? он ведь всегда писал одно и то же — всегда был «постструктуралистом», даже в 50-е годы, всегда был против психологизма, даже когда в специальной книге анализировал собственную личность. Пожалуй, он бы и сам не очень-то узнал себя в этих толкованиях, а уж в его компании и мне не след обижаться.
Последний слышанный мною докладчик — расхристанный любомудр, втершийся выступать сверх программы, — скоренько, за три минуты уличил юбиляра в злодейском «убийстве автора», которое-де завело в тупик всю западную культуру, а заодно в «отмене полового дуализма, чем теперь и живет вся Франция». При этих намеках я поймал себя на греховной мысли: вообще убивать авторов, конечно, нехорошо, но иногда, кое-где, кое-кого — хочется. От греха подальше ушел вон.
Facebook
Художественные аттракционы
4.10.2015
Год назад в Париже открылся новый музей современного искусства — Fondation Louis Vuitton. Самое впечатляющее в нем (кроме фантастического здания в форме многопалубного корабля, который плавает в искусственной заводи, выкопанной рядом с Булонским лесом) — художественные аттракционы, которые не просто показывают вам что-то, а заставляют пережить какой-то необычный психофизиологический опыт.
Например, в инсталляции Кристиана Марклея предлагается попасть под ураганный «перекрестный огонь» (название произведения), который ведут с четырех киноэкранов, по четырем стенам зала, персонажи разных голливудских фильмов — солдаты, полицейские, гангстеры, ковбои. Или вас приглашают потеряться в темном зале-лабиринте, перегороженном экранами, на которых отражаются не только проецируемые сцены, но и силуэты самих посетителей; зрители бродят впотьмах, натыкаются друг на друга, отражаются в огромных полуосвещенных зеркалах, смутно ищут Минотавра; а Дедала, построившего этот лабиринт, зовут Дуглас Гордон. Или еще вам разрешают самостоятельно запустить в работу целую батарею музыкальных шкатулок, настроенных Джоном Кейджем; тут, правда, обман — драгоценные машинки мэтра неподвижно красуются в витрине, а их «голоса» звучат в записи, с каких-то более современных носителей. Или же можно просто полежать в шезлонге, уставившись на мерно постукивающий метроном; этот умиротворяющий психотерапевтический сеанс придумала Марина Абрамович, словно для реабилитации травмированных зрителей, помнящих ее жуткие перформансы.
По совести говоря, «художественность» таких музейных аттракционов, отличающая их от обычных ярмарочных, заключается в претензии на многосмысленность: сопроводительная легенда к ним непременно содержит какую-нибудь глубокомысленную лабуду типа «подумайте о чем-то великом». На самом деле думать о великом вовсе не хочется; как выражался грибоедовский герой, «я езжу к женщинам, да только не за этим». Умные мысли найдутся в умных книгах, а в искусстве мы ищем эффектов, и этим оно все-таки сродни площадным увеселениям.
Facebook
Еще из парижских художественных впечатлений.
В музее Орсе работает большая выставка с завлекательным названием «Блеск и нищета: Образы проституции, 1850—1910». По-моему, очень приличная (по крайней мере, в переносном значении слова), особенно та ее часть, где собраны относительно «реалистические» картины парижской проституции второй половины XIX века. Позднейшие работы, даже больших мастеров (ван Донгена, Пикассо) — это самодовлеющие, внеконтекстные эротические образы, а вот более ранняя живопись и графика отражают действительно богатую и причудливую парижскую субкультуру позапрошлого века, служившую универсальной метафорой жизни для многих художников и писателей (например, Мопассан все человеческие отношения истолковывает через модель проституции; да и название выставки, понятное дело, — цитата из Бальзака). Пусть не обижаются феминистки, но эта субкультура даже сыграла свою роль в освобождении женщины: она впервые предъявила искусству реальную, массовую, опознаваемую фигуру самостоятельной, self-made женщины, которая хоть и продается мужчине, но при этом на равных противостоит ему, а то и господствует над ним. Конечно, то было и крайнее отчуждение женщины, но так часто бывает в истории — в каком-то смысле только отчужденный человек и историчен…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу