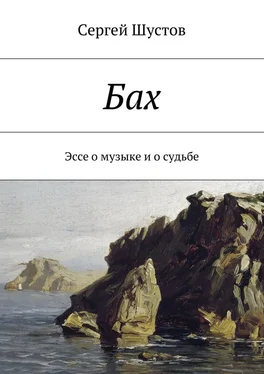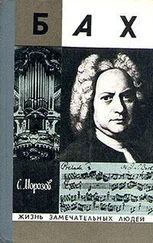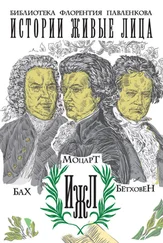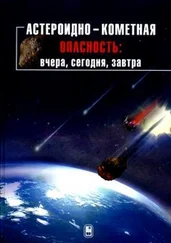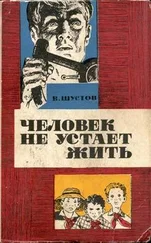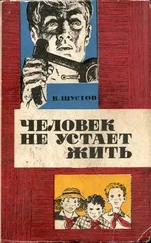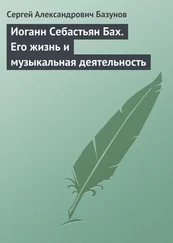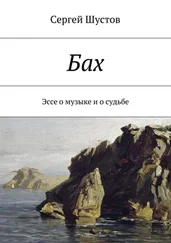И, в связи с этим вопросом, второй: а музыка? Её язык тоже, наверное, стареет? И поколения наших внуков категорически не примут современную нам музыку. Так это или нет?
В «Московских новостях» мне попалась заметка И. Качаевой, родительницы и блогера по совместимости. И пишет эта наблюдательная женщина очень важные, значимые, на мой взгляд, вещи: «Задали моему сыну-второкласснику выучить отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Осень». Сегодня задали — а завтра уже отвечать. Ну что, говорю, восемь строк всего, быстро выучим.
Но с «Осенью» все сразу пошло не так. Пришлось мне почти каждое слово, написанное великим поэтом, объяснять сыну. «Очей очарованье» — тяжеловато, но объяснила. Поэт любовался осенью, её яркими красками. Потом мы споткнулись об «увяданье». Помучились, но все же выучили и вторую, и третью строчку. Даже четвертую одолели, хотя «багрец» тоже долго не поддавался пониманию.
Я удивилась: Пушкина мы читаем, слова эти не самые «страшные», это ведь не «Песнь о вещем Олеге». И что здесь такого невероятного? Вот говорю, Дима, пол-Ламанша мы переплыли. Давай доплывем до финиша. Осталась вторая строфа.
Но второе четверостишье оказалось более сложным. «В сенях», «мглой волнистою» и «отдаленные седой зимы угрозы» не запоминались. Сын начинал сначала, запинался, потом ругал школу, учебник, Пушкина. В итоге легли спать на два часа позже обычного. Спали тревожно. На следующий день вернулся из школы с «пятеркой». Взахлеб рассказывал про то, что пятерок мало, много троек и двоек. Некоторые дети вообще это стихотворение выучить не смогли. Вечером было родительское собрание — плановое, в начале учебного года. Обычно во время него родительский комитет со всех деньги собирает.
Но собрание почти полностью было посвящено «Осени». Родители кричали: «Как можно такое детям задавать! Это же нереально выучить! Да ещё всего лишь за один вечер!» Крики дополнялись подробными рассказами о том, как дети плакали, не спали ночь, учили, но так и не смогли разделить с Пушкиным очарованье болдинской осенью.
Интересно, что проблема с Пушкиным возникла не только в нашем втором «А». Пока я сидела на собрании, погуглила «тренд». И правда, вот и в блогах то же самое пишут — дети не могут запомнить «Осень», потому что им слова непонятны. А ведь дальше по школьной программе — стихотворения Фета, Тютчева, Есенина…
Учительница как могла объясняла родителям, что в стихотворении ничего сложного нет. Что все слова можно объяснить, что они есть в словарике в конце учебника. А то, что дети не понимают и не запоминают — так это не Пушкин виноват. И не департамент образования, и не школа. Родители продолжали возмущаться. Даже забыли о том, что сами когда-то эту же «Осень» учили и у доски на оценку рассказывали.
«Дети не могут словами выразить своих чувств, ощущений. Это же страшно! — говорила учительница. — Вот в четвертом классе разбирали предложение „пастух трубит в рожок“. У детей спросили: „Знаете, что такое рожок?“ Ученики молчали. Вдруг кто-то вспомнил, что это такое мороженое. Ещё один ребенок сказал, что слышал это слово, „когда по телику шла реклама какого-то твоРОЖКА“. И всё».
Возможно, ещё через полста лет в стихотворении Пушкина понятными останутся только предлоги. А пока ещё можно любоваться осенним лесом и декламировать: «Унылая пора!»
Пусть читатель извинит меня за столь длинную цитату. Мне показалось, что автор очень точно изобразила процесс, который подспудно и независимо от нас идет везде и всюду в обществе, и на который мы еще не обращаем подобающего внимания. Хотя процесс этот весьма неприятный! Он отображает то, что называется «связью поколений». И констатирует своим наличием вновь, что проблема «отцов и детей», в том числе, лежит в сфере культуры. А точнее — непонимания разными поколениями квази-языков и субкультур, которыми эти поколения пользуются и которые внутри них формируются по каким-то загадочным и не всегда понятным законам.
Язык и музыка изменяются во времени. Этого никто отменить не может. Слог Тредиаковского уже Пушкину казался «старомодным». А нам — и вовсе смешным и непонятным. Оказалось, что нашим детям непонятен уже сам Пушкин. А как же музыка? Понятна ли барочная музыка современной молодежи? И что, вообще, означает слово — «понятна»? Какой смысл скрыт за этим словом?
Вполне кажется очевидным, что, отвечая на эти сложные вопросы, мы должны принять во внимание, по крайней мере, два аспекта. Первый: за словом всегда стоит смысл! Если нам скажут — «циклопентанпергидрофенантрен», мы тут же спросим — «а что это такое?» Может быть, не вслух, но сами себя — уж точно спросим. Так как привыкли за каждым словом видеть его значение. Смысл. Интуитивно мы поймем, быть может, что это что-то — из химии. Но нам все равно захочется уточнений и подробностей. Так устроен наш мозг!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу