Леся не поняла, при чем здесь стая? Но Вика всегда была со странностью. «Оторви да брось», – как говорила о ней Лесина мама. «Брось ее в счастье, пожалуйста!» – попросила Леся небесного дискобола.
Серега ненавидел шахты. Нет, не за темноту и духоту, и даже не за болезни и опасность обвалов. Он ненавидел их за отца.
Отец был в числе бастующих шахтеров летом тысяча девятьсот восемьдесят девятого года. Тогда весь Кузбасс встал, подав пример Донбассу и Воркуте. Сереге всего четыре годика было, он ничего не помнил. Но зато все последующие годы, пока отец не умер, все разговоры «за жизнь» так или иначе скатывались к этой теме. Отец рассказывал сотни раз, как началась забастовка: в душевых не было мыла. Купить его было негде. Мыла не было, а маразм был, и в огромных количествах. Тонны угля лежали не отгруженными, а шахтеров гнали в забой, чтобы доложить о перевыполнении плана. Так мыло и маразм объединились в одну гремучую смесь, которая рванула, еще как рванула. «Коммунистическая хрень достала всех, по горло в ней стояли, а жрать нечего было», – в сотый раз объяснял отец. «Да понял я, батя, понял», – примирительно говорил Серега.
Но отец не успокаивался. По сотому кругу говорил про мыло, про неотгруженный уголь, про пустые полки магазинов. Серега понимал, что отец специально себя распаляет, хочет доказать сыну, а главное, себе, что другого выхода не было, что правильно они тогда вышли на забастовку. Говорил отчаянно и зло. И с каждым годом все отчаяннее и злее. Потому что нужно было добавлять градус, чтобы потушить растущие сомнения в правильности тех дней. Со временем у отца появилось чувство, что их забастовка была тараном, свалившим СССР. Отец не мог себе этого простить.
До конца жизни вспоминал, как он с друзьями в Москву рванул. Целый поезд шахтеров, оккупировавших половину гостиницы «Россия». И как они шеренгой стояли на Васильевском спуске, а депутаты мимо них на работу шли – будто сквозь строй проходили. Руки шахтеров с въевшийся угольной пылью держали плакаты «Ельцин – наша надежда!». Тогда-то Ельцина и избрали председателем Верховного Совета России, с перевесом всего-то в четыре голоса. Отец эти четыре голоса на себя повесил, под этим грузом и жил.
Потом, уже в тысяча девятьсот девяноста восьмом году, отец снова в Москву ездил, каской стучал на Горбатом мосту. Это уже Серега помнил. Еще бы не помнить! Он на пороге пижонского возраста был – целых 13 лет. Непрерывно хотелось жрать, и кроссовки новые хотелось. Даже не поймешь, чего сильнее. А шахты стояли, отцу получку несколько месяцев не выдавали. И как мать кричала отцу: «Что? До чего достучались? По голове лучше себе постучи!» Но стучали по мостовой. А кто не стучал, тот плакат держал «Ельцин – наш позор!». Теми же руками, с въевшейся угольной пылью.
Шахта отравила жизнь отца. Он умер озлобленным. Разве что не швырялся в телевизор, когда показывали передовых демократов.
Тогда Серега сказал себе, что он и политика – две вещи несовместные. А если политика ему дорогу пересечет, то он огородами пробираться будет, в обход пойдет, лишь бы ничего общего с ней не иметь. Хватит с его семьи одного отца. Налог на политическую активность, можно сказать, уплачен сполна. С каждого двора по одной голове, хватит историю кормить.
И на шахту работать не пойдет.
Он еще совсем мальчишкой был, когда хоронили шахтеров после завала. Гробы стояли в ряд, и у каждого – кучка ребят, облепивших мать. Матери выли, дети плакали. Серега тогда подумал, что ночью в город приходили немцы, фашистский десант. Он ничего страшнее немцев не знал, благодаря советскому кинематографу. Но немцев не было видно. Тогда Сережа осмелел и спросил отца: «Все-таки наши победили?» Отец не понял, но кивнул. Только спустя годы Сережа понял, кто кого победил.
В их семье под строгим запретом было оставлять включенной лампочку. Это было серьезное прегрешение. Как-то Серега убежал из дома, не выключив свет. То ли на школьную дискотеку опаздывал, то ли еще куда. Но, видно, повод был исключительный, отбивающий память. Когда вернулся домой, на отце лица не было. Нет, отец не орал, не ругался, а усадил сына решать задачку. Простую задачку – в одно действие. За год Кузбасс добывает сколько-то тонн угля и хоронит столько-то шахтеров. Вопрос: сколько тонн угля стоит одна шахтерская жизнь? Это как производительность труда считать, только делить надо не на живых, а на мертвых.
Сергей потом всю жизнь выключателями щелкал, как привидение ходил, охотился на зряшную лампочку. Его даже на смех поднимали. Но как поднимут, так и опустят. Он продолжал тушить свет, где только можно. А от городской иллюминации морщился, как от боли. Для шахтера оставить лампочку напрасно гореть – это как для ленинградца хлеб выбросить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





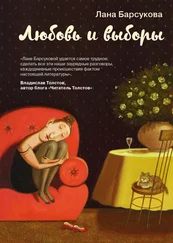
![Лана Барсукова - Сочини мою жизнь [litres]](/books/406183/lana-barsukova-sochini-moyu-zhizn-litres-thumb.webp)
![Лана Барсукова - Счастливые неудачники [litres]](/books/412342/lana-barsukova-schastlivye-neudachniki-litres-thumb.webp)




