– Нашел? – не отрываясь от ловли чаинки, спросила Марина.
– Кого?
– Свою женщину. Революционеры хоть до революции дело довели. Все какая-то завершенность.
– Мариночка, ты еще такая молодая. Ты не понимаешь, что революцию совершить гораздо легче, чем найти своего человека. Ему просто не везет. Так бывает. Насколько я знаю, он все еще в поиске. У меня подруга в университете работала. Пришла к нему заявление об увольнении подписывать, а он так проникновенно с ней поговорил, про ее жизнь без работы, про радость спокойных будней, про свой сумасшедший график… С этого у них и закрутился роман. Она влюбилась, как девочка. Но, увы, он и тут не обрел счастье. Кажется, они остались друзьями.
Повисла пауза.
– Марина, ну давай я чай сменю. Далась тебе эта чаинка. Я же с тобой о важном говорю, а ты в чай уткнулась. Тебе совсем неинтересно?
* * *
Марине было не интересно. Ей было больно. Очень. Вдруг она осознала себя частицей потока, омывающего Гурина. Нет, иллюзий и раньше не было. Понимала, что ее встроили в длинную вереницу имен, но надеялась, что после ее имени будет стоять не противная хвостатая запятая, кривенькая и путающаяся в подножье, а устремленный в небеса, натянутый, как звонкая струна, восклицательный знак. Ей мнилось, что вереница женщин своими вздохами многие годы надувала воздушный шарик, внутри которого спокойно, тепло и радостно парил Гурин. И вот с появлением Марины этот шарик громко схлопнется, напоровшись на пику восклицательного знака, стоявшего после ее имени.
Но лопнул не шарик. Разрушилась картинка с его изображением. Ее линии словно пришли в движение, и вместо вдохновенного эскиза талантливого художника проступили контуры банального украшательства в исполнении посредственности. Таким картинкам цена – рупь в базарный день. Да еще в позорной золоченой рамке толщиной в ладонь. Народ, торопись, покупай живопи́сь! Вот она и купила. Марина знала о себе, что она красива, умна. Затаившись, несла по жизни догадку о своей исключительности. А оказалась одной из многих. И это давило на самолюбие так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть.
Верины воспоминания согнули восклицательный знак в бараний рог, слепили из него жирную запятую. Марина даже не поняла, как это случилось. В рассказе Веры не было ничего ошеломительно нового. Однако то ли этот рассказ упал на почву собственных смутных догадок и тревог, то ли восторженность Веры стала кривым зеркалом, в котором смешно и уродливо отразилось Маринино чувство, но пришло отрезвляющее осознание: не будет никакого хлопка, взрыва, контузии. Не будет и восклицательного знака. Ее имя окажется зажатым между двумя запятыми. Как сильно меняет дело простой знак препинания! Замыкать ряд и продолжать его – это совсем разные судьбы.
Завтра она придумает, что предпринять. Но это будет завтра. А пока можно отдать день на откуп страданию. Лучше всего пойти в бассейн. Там можно плакать сколько угодно, никто не заметит – у всех мокрые лица. Даже подвывать чуть-чуть можно. Гулкость бассейна вой поглотит. Масштаб ее горя явно превосходил размеры ванной. Ей было нужно много-много воды, чтобы растворить в ней свою любовь, поплескаться в ней на прощанье, сгребать руками и толкать ногами это чувство, захлебываться им и плыть, плыть прочь от него. Пока силы не оставят, до изнеможения. А потом выйти из воды, оставляя мокрые следы на кафельном полу. Ничего, следы высохнут. И слезы высохнут. Все проходит. Надо только чуть-чуть потерпеть, подождать. Уже завтра, пока она будет спать, Земля пододвинется в небесном просторе и все будет иным, надо только дотянуть до завтра.
* * *
Утром за чашкой чая было принято решение: «Если восклицательный знак невозможен, то за вопросительный я еще поборюсь». Нет, она не позволит скомкать свою мечту в курносую запятую, она сама согнет устремленный в небеса восклицательный шпиль в вопросительную кривую саблю, которой отрежет от себя эту историю.
Ей предстояло смастерить вопросительно изогнутую дугу и повесить на нее колокольчик, мстительно бередящий душу Гурина. Сделать это вовсе не трудно, зная, на какие звуки мира откликается его душа. В мировой какофонии есть только два звука, жадно выхватываемых Гуриным. На остальное у него установлены своеобразные заглушки. Первый звук – это женский голос. Гурин тянул его из пространства с трудолюбием пчелы, собирающей нектар. Он знал все интонации этого голоса. Знал, каким он бывает у грудастых блондинок и очкастых брюнеток, у курящих вамп и рыхлых толстушек. Знал, как он дрожит перед бурей слез, как возвышается в обвинениях и падает навзничь при мольбе о прощении. Словом, при всем многообразии это был единый звук, вариации которого были самой фантастической музыкой для Гурина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





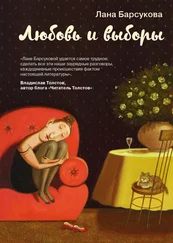
![Лана Барсукова - Сочини мою жизнь [litres]](/books/406183/lana-barsukova-sochini-moyu-zhizn-litres-thumb.webp)
![Лана Барсукова - Счастливые неудачники [litres]](/books/412342/lana-barsukova-schastlivye-neudachniki-litres-thumb.webp)




