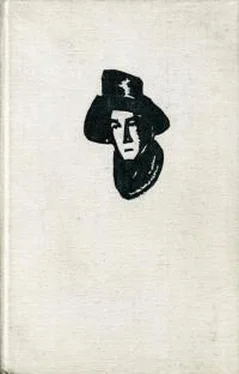— Староста все-таки решил наказать их, — шепнул мне Жемал.
— Как?
— Сейчас увидишь. Непременно увидишь, гяур.
Селим Решит извлек из кошелька серебряную лею и подбросил ее вверх. Круглая монетка на миг сверкнула в лучах солнца. Турки ринулись вперед, один из них изловчился и на лету схватил монету зубами. Татары издали ликующий вопль. Селим Решит подбросил еще одну монету. Ее поймал на лету зубами другой турок.
Больше двадцати раз бросал мой хозяин серебряные леи. Ни одна из них не упала на землю. Турки напряженно ждали, и когда монета, жужжа и сверкая, взлетала в липкий воздух, то один, то другой из них изготавливался, следил за ее падением и — успевал схватить на лету зубами. Каждая их удача вызывала долгие радостные вопли.
Хозяин сунул пустой кошелек обратно за пояс. Настал черед ходжи Ойгуна бросать монеты. Но ходжа был беднее Селима Решита, да и Урпат, который теперь осиновым листом дрожал от боли в своей комнате, не был ему сыном; поэтому он бросил туркам лишь несколько продырявленных никелевых монеток. Музыканты не ослабили внимания и сумели поймать их все — тоже на лету, и тоже зубами.
Вслед за ходжой и другие татары милостиво бросали музыкантам кто что мог: одни — никелевые монеты, другие — совсем уж мелочь, медь, которая в то время и в тех краях еще имела кое-какую ценность.
Вначале эта игра привлекла и захватила меня, но, затянувшись, показалась отвратительной своей жестокостью и дикостью. В конце концов она прекратилась. Турки, с которых пот катился градом, отошли к стене дома, сели в пыль, вытащили деньги, доставшиеся в уплату за труды, и сложили их в общую кучу. Тщательно пересчитав монеты, разделили их на одинаковые кучки, и каждый взял свою долю. Довольные выручкой, поднялись, низко поклонились татарам, поблагодарили их, разобрали свои дудки и гуськом, громко трубя, пошли со двора, сопровождаемые татарчатами, угощавшимися на свадьбе их дружка и двоюродного брата Урпата. Ушел и ходжа Ойгун. Кланяясь Селиму Решиту и благодаря его за оказанную честь, покинули двор и остальные гости.
На землю опускался вечер. Вуап получил плату и чаевые. Мы помогли Кевилу собрать утварь. Затушили костры и собрали пепел. Объедки свалили в углу двора — для собак. Я пошел к колодцу, достал воды и умылся. Съел один хлебец. Когда Кевил, Жемал и Омир заканчивали свои расчеты с Селимом Решитом, во двор на полном скаку влетел табун, пригнанный с пастбища Урумой.
Через неделю Урпат был совершенно здоров. Он весело скакал и прыгал, и все просил меня померяться с ним силами.
— Эй, Ленк, когда же ты надумаешь стать татарином? Я был бы рад. А Урума обрадовалась бы еще больше.
— Мне надо подумать, Урпат, и я, может быть, еще решусь стать татарином.
Многое готов обещать человек на радостях или с горя, но мало что выполняет.
Довольный тем, что к середине лета благополучно завершился тяжелый труд по уборке и молотьбе хлебов моего хозяина Селима Решита, довольный и тем, что «свадьба» Урпата прошла удачно и теперь парнишка был более весел, смел и красив, чем раньше, я по-прежнему часто виделся и встречался с Урумой, по-прежнему гонял табун на пастбище и поил из колодца с воротом лошадей татарина — и так до тех пор, пока в Добруджу не пришла суровая осень. С ее приходом сразу разыгрались свирепые бури, и на бескрайние степи обрушились проливные дожди. Побережье опустело, стало диким, серым. А море… Море просто взбесилось. С протяжным воем оно билось о берег. Однако лошади соргского старосты не хотели знать, какая на дворе погода. Они дрожали от холода, согревались бегом, потом их снова пробирала дрожь. Несмотря ни на что, их надо было пасти и поить по-прежнему. Другого выхода не было. Меня лихорадило не меньше, чем лошадей. Скрепя сердце набрасывал я себе на спину грубый холщовый мешок, влезал на коня и отправлялся на пастбище. Там я укрывался… Нет, нигде я там не укрывался, потому что укрыться там было негде. Иногда, превозмогая яростные струи дождя и порывы ветра, до пастбища добиралась Урума. Привозила мне обед: ломоть черствого хлеба и кусок жареной баранины. Когда я все съедал, она залезала ко мне под мешок и согревала меня.
— Ленк… Жизнь так чудесна…
— А разве я когда-нибудь говорил, что нет?
— Не знаю, говорил или нет, но ты какой-то горький, Ленк, горький, как сок белены. И мне кажется, что я тебя уже не люблю, Ленк.
— Совсем не любишь?
— Я бы не сказала, что совсем, но чувствую, что уже не люблю тебя так, как любила тогда, вначале.
Читать дальше