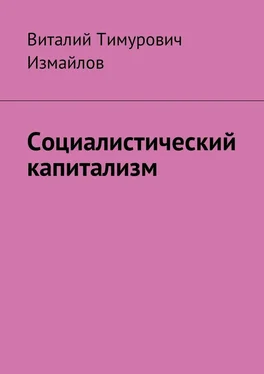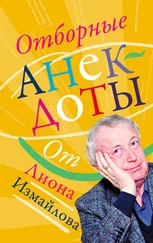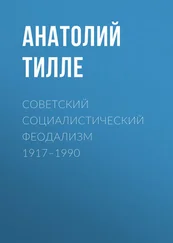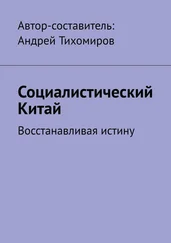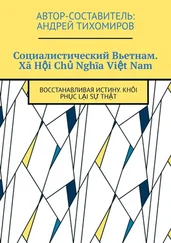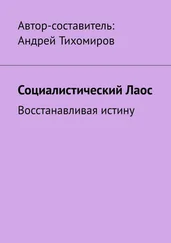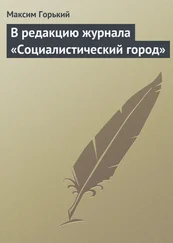Пояснение к 3-му абзацу. У читателя могут возникнуть вопросы такого характера. Почему финансовые безобразия, творившиеся в последних десятилетиях в СССР (в результате которых, — вернёмся в I главу, — печатались не подтверждённые золотом деньги), не отражались пагубно на его экономике? Хоть правительство и старалось всячески о том замалчивать, но кто-то же всё равно догадывался о происходящем, естественно, делясь своими догадками с родными и знакомыми; почему население на подобные слухи никак не реагировало? И если в то время государству сии нарушения сходили с рук, то нельзя ли было и в 1930-40-е годы, после отмены НЭП (когда границы закрылись), правительству поступать точно так же, то есть допечатывать деньги, не обеспеченные золотом, и выдавать их в качестве зарплат, обходясь тем самым без облигационных займов? Итак, обо всём по-порядку. До августа 1989 года существовали три фактора, в совокупности поддерживающие в сознании граждан авторитет рубля на высоком уровне. Первый фактор: люди верили в обеспеченность его золотом (в результате проведённых в 1922—24 гг. денежных реформ, «совзнак» был отменён и появился подтверждённый золотом рубль; в последующие годы важным было сохранить устойчивость рубля, — сие, плюс ко всему, укрепляло в народе уверенность в правильности выбранного им социалистического пути). Второй: доверие к рублю было достигнуто фиксированными и стабильными — в течение десятилетий — ценами на одни и те же товары и услуги. Третий: на валютном «чёрном рынке» сохранялось спокойствие. Данный пункт раскроем шире. Валютчики (напомним, их количество стало увеличиваться после августовских 1989 года поправок и дополнений к закону «О госпредприятии», разрешивших хозрасчётным производствам и кооперативам самостоятельно торговать с фирмами капиталистических стран, образовывая совместные с ними предприятия и получая прибыль в валюте ; до сего времени валютчиков было мало вследствие ликвидации их контролирующими органами) покупали у иностранцев и «обслуживающих» их местных проституток валюту с целью пере продажи её другим людям, имеющим возможность выезда за границу — высокопоставленным чиновникам («спасавшим» валютчиков от спецслужб — об этом ниже) и дипломатам (за валюту в тамошних странах ими приобретались и привозились домой разные вещи, зачастую втридорога перепродававшиеся соотечественникам). Валютчики, именно из-за того что могли достоверно (а не на уровне слухов) знать о печатании государством денег, не подтверждённых золотом (например, от знакомых, работающих в правительственных структурах и связанных с госбанком, кому они «доставали» валюту), и при этом непосредственно контактировали с зарубежными гостями, проводя с ними валютно-рублёвые сделки, были единственными, через кого к иностранцам могли утечь сведения о тайной девальвации рубля. Но! Даже если (даже если!) они о том знали, то не в их интересах было рассказывать о сём зарубежным гостям, так как последние стали бы повышать цену на имеющуюся у них валюту (на «теневом рынке» существовал прочно установившийся курс обмена валюты на рубли, который в несколько раз отличался от государственного, в связи с чем иностранцы стремились обменять валюту не в госбанке, а продать её валютчикам), что валютчикам и тем, кому они пере продавали валюту, было бы не выгодно. Но это только одно, стабилизирующее «чёрный рынок» обстоятельство. Другое заключалось в том, что валютчики, — речь идёт о тех, кои находились на свободе, причём исключительно потому, что начальники спецслужб, держа их на крепком крючке «за прошлые дела», не давали команду сажать оных, исходя из своих, личных интересов, скажем, чтобы через них в нужное время раздобыть валюту для кого-то из высокопоставленных лиц или их знакомых, выезжающих по работе за границу, кому они подчинялись и от кого зависела их дальнейшая карьера (уезжающие в загранкомандировки привозили из зарубежья «своим людям» по их просьбе или в знак благодарности — по принципу «рука руку моет» — одежду, обувь, аудио и видео технику), — понимали, что «ходят под секирой», и посему, будучи жёстко проинструктированными насчёт «лишних слов» при общении с иностранцами, никаких «задушевных», откровенных разговоров с ними, а тем более об экономической ситуации в СССР, позволить себе не могли, — о содержании разговора могли узнать советские спецслужбы. А вдруг иностранец — вовсе не иностранец, а агент КГБ (МВД), проверяющий их на болтливость? И тогда — голова с плеч. Именно вследствие «молчания» валютчиков, — не говоря уже об остальных гражданах, кои если и общались с зарубежными гостями, то кроме пустых слухов, ни о чём существенном поведать им не могли (если вообще разговор между ними мог зайти на эту тему, ведь за подобные разговоры их ждали бы в лучшем случае жуткие неприятности на работе), а за причастность к валютным сделкам рисковали попасть в тюрьму, — творившиеся в последних десятилетиях в СССР финансовые нарушения, никому за границей не были известны вплоть до августа 1989 года, когда иностранцы, узнав о девальвации рубля от своих правительств, уже сами стали диктовать цену на валюту при её продаже. Приведённые три фактора обуславливали в стране отсутствие какой-либо паники. В такой спокойной обстановке слухи об обесценивании рубля представляли собой пустую болтовню и не могли перевернуть убеждённость граждан в его твёрдости. В противовес слухам, по факту, они видели другое — цены не растут; товарной массы (за исключением дефицитных, дорогостоящих товаров, имеющих также фиксированные цены) в магазинах предостаточно и она не исчезает, хотя, что касается одежды (обуви), справедливо отметить — большая часть оной была топорная; соотношение рубля к валютам стабильное и с течением времени не меняется; цены у подпольных торговцев (спекулянтов) на импортные вещи, включая позже появившуюся зарубежную электронику, с годами остаются прежние. Когда после августовских 1989 года изменений закона «О госпредприятии» началось падение рубля на «чёрном рынке», то это были уже не пустые слухи, а реальность, воочию наблюдаемая в кооперативной торговле и на базарных рынках, где цены пошли вверх, потому что частники стали подгонять их под курс валют, существующий на «чёрном рынке»; результат — потеря доверия к рублю и опустевшие полки государственных магазинов. Но если позднему СССР слухи — до августа 1989 года — никак не вредили, то в 1930-40-е годы подобные слухи были недопустимы; ни тени сомнения не должна была вызывать твёрдость рубля, ведь народ ещё помнил «совзнаки», обесценивающиеся галопирующими темпами, и достаточно было только слуха, чтобы рублю мгновенно перестали бы доверять; возник бы покупательский ажиотаж, который привёл бы к опустошению магазинов, озлобленности населения и дальнейшему хаосу. Опасность положения тех лет состояла ещё и в том, что было много ранее осужденных за помощь белогвардейцам, а также раскулаченных и других диссидентов, — в глубине души ненавидящих советскую власть, злорадствующих её неудачам и ждущих падения оной, — кои непременно «помогли» бы слухам как можно быстрее распространиться среди народа. Поэтому в то тяжёлое время, никаких, даже маломальских прецедентов, способных обесценить рубль, ни даже намёка на то — ни в коем случае нельзя было допустить, и единственным выходом наполнить госбюджет, сохранив твёрдость рубля, а значит и стабильность государства, было проведение облигационных займов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу