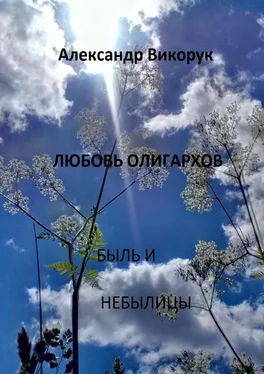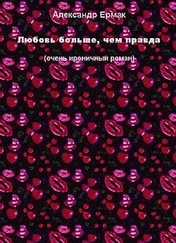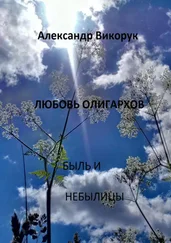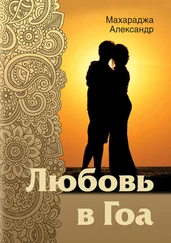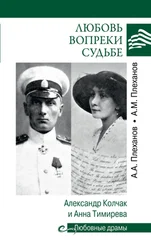Уж не знаю, на каких весах члены экзаменационной комиссии взвешивали мои познания, но «в осадке» вышло «хорошо».
Была в моей учебной истории и редакционная практика. В ту пору в пристройке к зданию Литинститута обитала редакция журнала «Знамя». Вот, и напросился я на практику в отдел прозы. Тогда заведующей отдела была известная критик Наталья Иванова, и под ее началом две дамы.
Не обошлось и тут без анекдотов. В одном из казенных шкафов с застекленными полками одиноко на чистой полке лежали листки, исписанные от руки. В момент затишья я полюбопытствовал и обнаружил, что это послание начинающего автора.
Основным моим занятием было чтение рукописей авторов и сочинение ответов, в основном, с отрицательным заключением. И где-то к концу моей практики одна из дам выловила из шкафа эти листки и вручила мне.
Это было описание эпизода встречи героя с женщиной без тех пресловутых «завязок» и «развязок», нечто отрывочное, как услышанный обрывок чужого разговора, да еще со старомодным прозвищем героини «Ундина».
Недолго думая, я сочинил ответ, указав автору, что такого рода прозаический стиль устарел.
Много позже моя память-копуша подсказала, что это отрывок из прозы Лермонтова о бедных контрабандистах из Тамани. Бывает, что графоманы «передирают» куски из классики и посылают в редакции в качестве незатейливой шутки. Милые дамы держали этот «подвох» для своих шуток над безобидными рецензентами.
Но мой промах не остался без возмездия. Та же дама вручила мне для прочтения рукопись перевода фантастической повести западного автора. По мере чтения я не мог отделаться от ощущения, что текст мне знаком. Наконец память проявила всю правду: то же самое я читал много лет назад в журнале «Аврора». Мне удалось найти и номер и установить настоящего автора перевода.
Дама благодарила и была счастлива, поскольку эту повесть они уже предлагали к печати, и вышел бы грандиозный редакционный скандал.
Шел я на практику в «Знамя» не без тайной надежды, что удастся напечатать хотя бы рассказик. Увы. Мало того, уже много позже, после безрезультатных попыток предложений в редакции своих рукописей, послал я в Кострому несколько рассказов Игорю Дедкову, тогда набиравшему популярности критику с хорошей репутацией совестливого человека. А как раз в это время он перебрался в Москву. И он ответил мне, что один рассказ понравился и он передал его в отдел прозы журнала «Знамя». Тоже, увы. Через какое-то время получил я конверт с рукописями и стандартным благожелательным отказом.
А через два или три года Игорь Дедков умер. Может, после вольных волжских просторов — слишком тесно было его душе в редакционных джунглях столицы. И стал он ангелом.
А за несколько месяцев до окончания учебы в Литинституте состоялось уникальное для любого студента событие. Мало похожий на ангела Александр Рекемчук передал мою повесть «Зона холода», мою дипломную работу, главному редактору журнала «Юности», выходившего тогда трехмиллионным тиражом. Борис Николаевич Полевой, это был последний год его земной жизни, не поленился и пригласил студента в свой редакционный кабинет. Сказал, что читал рукопись, отметил, что верно в повести говорится о сложной судьбе молодых ученых. Посетовал, что его племянник как раз в стадии защиты диссертации. Повесть была поставлена в первый номер 1981 года.
Но жизнь сложнее видимой нам стороны. Там, на другой, теневой стороне, в закулисье плетутся, может, главные стежки. Уже после выхода повести, когда еще я раздавал друзьям и знакомым экземпляры январского номера, Александр Евсеевич как-то при встрече сообщил о «подводной части айсберга».
Оказалось, на заседании редколлегии журнала, когда принималось окончательное решение о формировании первого номера, член редколлегии, тоже руководитель семинара прозы в Литинституте, заявил, что предлагаемая повесть не соответствует настроениям в обществе в преддверии очередного исторического съезда КПСС. Был в те времена такой вид «идеологического спорта». Когда можно было сделать какую-нибудь пакость под соусом «высоких идейных принципов». И повесть сняли с номера до лучших идеологических времен. Не знаю, была ли похожа на ангела, в душе — без сомнений — чистый ангел, машинистка редакции, которая перепечатывала отредактированную рукопись. По словам Рекемчука, она позвонила ему и выдала страшную редакционную тайну. Ну, а Рекемчук позвонил Борису Полевому и убедил вернуть повесть в номер.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу