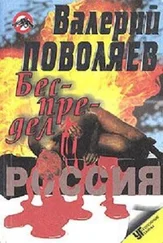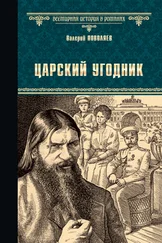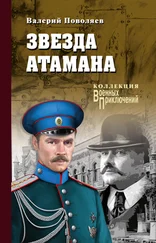– Чекушка на троих.
Ходила в народе такая хохма. В конце концов чекушечная компания обиделась на окружение младшего лейтенанта, выматерилась беззлобно и растворилась в снегу.
Когда снег перестал идти, сделалось еще холоднее, стало очень холодно. Автобусы застыли в безобразных угловатых сугробах, улицы замерли, техника могла двигаться только на буксире у более сильных машин, например, у тракторов и тех трескучих механизмов, которые имели гусеницы. На фронте эту роль выполняли танки, но пора та тяжелая прошла, возвращаться в нее не хотел ни один человек в Советском Союзе… Коваленко остановился у невысокого, густо облепленного снегом дерева, прислонился к стволу.
Людей не было видно, словно бы всех подмела под гребенку некая страшная болезнь, пространство было пустым. Коваленко поднес ко рту руки, подышал на них. Ни пальцы, ни кожа, ни обратная сторона ладоней, ни сами ладони теплоты дыхания не почувствовали. Надо было двигаться дальше. Коваленко мотнул головой, словно бы отдавал себе приказ, но с места не сдвинулся.
В голове шумел, глухо плескался морской прибой, вода накатывалась на кромку берега, подхватывала гальку и с влажным дробленым шуршанием неторопливо отползала назад. Давно он не слышал звука морского прибоя, хотя волны, бьющиеся о берег, иногда возникали во сне, и тогда Коваленко встревоженно вытягивался на постели, замирал в ожидании, что сейчас прозвучит громкий жесткий приказ, не оставляющий ни одного шанса на выбор – двигаться придется вперед и только вперед, на пули…
– Вперед, – пробормотал он едва слышно, окутался белым паркум, налетевший порыв поспешно уволок его в сторону. – Вперед, – повторил Коваленко, но опять не сделал ни одного движения, чтобы оторваться от дерева.
Людей в округе по-прежнему не было, улица пугала своей удручающей пустотой. Колдовство какое-то, наваждение, шаманство.
– Вперед, – произнес он призывно и вновь не сделал ни одного шага, даже малого.
Несколькими вялыми движениями поднял воротник шинели, руки засунул в рукава.
Морская шинель представляла собой известно что, особенно в ту пору: тоненькое сукно без всяких утеплителей и подстежек, на «рыбьем меху» – на воздухе то есть. И, кроме воздуха – ничего. Замерзнуть в такой шинельке можно было легко и главное – очень быстро. Коваленко поплотнее прижался спиной к дереву – так будет теплее, правда ведь? – и закрыл глаза.
Перед взором его высветилось море – огромное, сияющее, теплое, очень спокойное, именно такое море любила Полина, – и младший лейтенант расслабился, вздохнул освобожденно, вгляделся в недалекие волны. Ведь недаром все время он слышал звук моря.
Звук моря, влекущий, рождающий сладкую дрожь в душе, – призывный звук моря…
Наутро флотского офицера Коваленко нашли замерзшим около того дерева, где он так неосторожно остановился, чтобы перевести дыхание и согреть хотя бы немного руки…
Оставшись в Москве на попечении матери и сестры, Вера Егорова часто вспоминала Шпицберген, синие глыбы льда, сваливающиеся в черную недобрую воду, жесткий снег, похожий на металлическую окалину, способную разрезать руку до костей, недоброе небо, разрисованное широкими полосами северного сияния, охлесты пурги, способные не только выдавить стекла в помещении, но и завалить стенку барака на землю, опрокинуть целиком весь барак, вспоминала Вилниса, который так и не сумел вернуться в Москву, чтобы расписаться в загсе, тетю Киру, но больше всего почему-то – кошку Конгушу.
Жива ли она там, на этом угрюмом холодном Севере, Конгуша – диковинное животное черепаховой породы, сшитое из трех цветных лохмотов, свалившееся, судя по всему, с неба?
Раз в две недели Вера ходила к врачу, показывалась – беспокоилась, что вдруг с ребенком будет чего-нибудь не так, процесс пойдет вкривь или вкось и в результате вместо сына, которого она ожидала с нетерпением (Вилнис тоже ожидал сына), можно родить кого-нибудь еще… (Интересно, кого?)
Доктор – седенький, в древних крохотных очечках, с трясущимися пальцами, но очень опытный, – умолял Веру не волноваться, ходить в поликлинику пореже, но она волновалась, очень волновалась и появлялась здесь регулярно.
В письме Вилнис сообщил, что уходит с экспедицией в глубину Шпицбергена, когда же вернется в Баренцбург, то первое, что сделает, – ближайшим рейсом самолета отправится к жене. Вилнис называл Веру женой, хотя не был с ней расписан, это обстоятельство иногда делало лицо юной женщины озабоченным, но озабоченность, сильно старившая ее, быстро проходила.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу