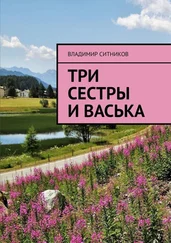Его разбудили те же голоса. В избушке по-прежнему было темно. На фоне окошка прорисовывались те же силуэты Огородова и Евграфа Ивановича, только разговор между ними был уже не грубовато-подтрунивающий или ласково-предупредительный, как обычно, а звенел на взволнованных, натянутых нотах.
— Ну, скажи, зачем, зачем ты, Коля, все себе гребешь? — допытывался голос Евграфа Ивановича. — Все ведь дефицитные товары — шубы, магнитофоны, заграничные сапожки — прямо с базы из Бугрянска раскатал или взял себе, а с чем район оставил? Мне стыдно людям в глаза смотреть. Зря я тебя с директором базы свел. Каюсь, зря.
— Разревелся, — насмешливо ворчал Огородов. — Да район твой в телогрейках проходит. Шубы кому я устраиваю? Не просто так.
Огородов возмущенно засопел, судя по жесту, утер рукой губы.
— Но нечестно это, — шумно прошептал Евграф Иванович. — Нехорошо, понимаешь, нехорошо!
— Нечестно, — передразнил его Огородов, — а что ты думаешь — Огородову за красивые глазки дают сверх фондов стройматериалы? Сумеешь отблагодарить — и тебе достанут. Ну, ладно, хватит, замнем для ясности. Не одни мы тут, — шепотом сказал Огородов и позвал мгновенно подобревшим голосом: — Гарольд Станиславович, не спишь?
Серебров не ответил. Ему хотелось узнать, что собой представляет Огородов.
— Глупый ты, Граша, человек, — с ласковым назиданием говорил тот. — Вот ты орден получил. Считается, что за хорошую работу, за строительство, а его бы мне полагалось иметь, этот орден: ведь я тебе кредиты пробил, фонды выхлопотал, да и орденом-то наградить я тебя предложил, а не твой преподобный Шитов. Вот оно что, милый мой.
Раздался звон бутылки, задевшей о кружку.
— Ну, знаешь, — возмущенно выдохнул Соколов.
— Ты бы, парень, ноги мне мыл да воду пил, а ты почто-то лезешь на рожон. Эх-хе-хе-хе, — словно жалея Евграфа Ивановича, сказал Огородов.
— Д-да, — озадаченно протянул Соколов. — Я понял, тебе хочется, чтобы навар был. Есть у тебя эта черта. Ты, наверное, не замечаешь, а люди говорят. Ловчишь ты.
У Сереброва давно пропал сон. Ух, какой спор заварился! Выходит, Огородов не такой, совсем не такой, каким хочет казаться. Сереброву неудобно стало оттого, что он лежит и подслушивает этот сумбурный спор. Он повернулся, делая вид, что во сне сменил усталый бок, но скрип нар не насторожил спорщиков. Они потеряли всякую осторожность.
— Я уж про твою Золотую Рыбку, Азу Никаноровну, не говорю, — продолжал Соколов. — Твое дело. Но в мелком, понимаешь, даже в мелком ты себя мараешь. Помнишь, ты обхаживал в Анапе Евгению Демидовну? Сказал, что жена у тебя померла. Ну, как ты мог, ну?
Соколов говорил на страдальческой надрывной ноте. Видимо, ему страшно хотелось, чтобы Огородов понял его, согласился с ним, и они бы, выпив, мирно улеглись с другом Колей спать. Спор закончил Огородов.
— Ну ладно, наговорились вроде, — с отчуждением подвел он итог и припечатал тяжелой ладонью стол, — спать пора.
В голосе Огородова чувствовалась обида. Он, наверное, не мог успокоиться, встал, вышел из избушки. Вернувшись, уместился на лавке. Видно, не захотел ложиться рядом с Соколовым на нарах. Лавка скрипела под его тяжелым телом, спать на ней было неудобно, но он на нары не шел.
— Коля, Коль, иди сюда. Ты чего, сердишься, что ли? — нарушил тишину своим покаянным шепотом Соколов. Огородов то ли умудрился уснуть, то ли и вправду рассердился не на шутку. Молчал.
Когда Серебров проснулся, в избушке было светло. Он испуганно вскочил, сообразив, что проспал охоту. Огородов и Соколов уже встали и ушли, пожалев его будить. Он сунулся к окошку. На улице белел снег. Когда он успел выпасть, этот неожиданный майский снег?
Соколов и Огородов где-то на току били косачей, а он, Серебров, торчал в избушке. Было стыдно и горько, что ушли они не сказавшись.
Правда, Серебров сомневался, что в такой снежище прилетят даже самые драчливые косачи, но все равно, какое унижение — проспать. Обиженный, сердитый, Серебров, хрястнув дверью, выскочил из избушки. Так и есть, ушли: на свежем снегу четко отпечатались рубчатые следы резиновых сапог. «Эх, предатели несчастные!»
Озеро сменило свою оправу. Теперь она была ослепительно белой, и от этого вода еще гуще почернела. И на коротнях был снег, и на деревьях. Сереброву хотелось от обиды зло крикнуть, выстрелить из ружья, чтоб передать свое возмущение, но он вдруг услышал скрип снега, заполошное дыхание и крик Соколова.
— Ко-ля! — звал Евграф Иванович. — Ко-ля!
Читать дальше