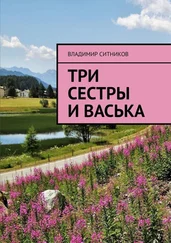— Я ведь тебя отстаивал, не вышло, но ничего, во всяком случае, с земного шара не сбросят.
Полные мрачного оптимизма слова, вызывавшие раньше у Сереброва веселье, потому что они или не касались его, или относились к делам пустяковым, теперь его обидели. Видимо, Маркелов понял это и сказал потеплевшим голосом:
— Жалко тебя, неплохо ведь жили, но ты не трусь. Хороший человек и в аду обживется. Работать-то ведь легко, надо только придумать, как сделать, чтоб коровы с голоду не орали, чтоб хлеб под снег не ушел, чтоб девки деревню не покидали, а так все просто.
Но и это были не те слова, которых ожидал Серебров. А существовали ли такие слова, которые бы помогли ему?
Серебров с неохотой, принуждая себя, отправился в Ильинское, так и не найдя успокоения и уверенности. Машина въезжала под тревожное низкое небо, затянутое фиолетовыми тучами. Они не сулили ничего обнадеживающего. Глядя на неприбранные ильинские поля, Серебров думал, что в жизни теперь наступит невыносимо грустная полоса. Как выйти из нее? Как сделать, чтобы все было не шаляй-валяй?
У ильинской конторы помахал ему шапкой Ефим Фомич Командиров. Серебров остановил машину.
— Зайди-ка, Гарольд Станиславович, — прошептал тот таинственно. Серебров нехотя выбрался из «газика», двинулся вслед за Пантей в пропахшую застарелой табачной вонью контору.
Командиров распахнул перед Серебровым бутафорскую дверь закутка, считавшегося председательским кабинетом, снял шляпу, аккуратно причесал скудную растительность на темени и, приблизившись вплотную, проговорил предостерегающим шепотом:
— Ходят слухи, что тебя сюда запрут. По-хорошему ли, по-плохому ли, не соглашайся. Загинешь, панте. Люди здесь такие: горек будешь — выплюнут, сладок — проглотят.
Лицо у Ефима Фомича было сочувствующее и испуганное.
— Пресненьким надо, что ли, быть? Ни рыба ни мясо? — усмехнулся Серебров.
— А ты брось насмешничать-то. Правду, панте, собьешь холку. Я ведь девять годков отбухал. Кабы не гож вовсе был, не держали бы. Один Докучаев чего стоит, сколько крови мне испортил. Гость да гость. Хулиганство ведь форменное. Я говорю: не нравится, так уезжай. А он: не-ет, почто я из своих мест поеду?
— Поздно, поздно, Ефим Фомич, — проговорил, вздохнув, Серебров. — Ты мне лучше расскажи, с чего надо начинать.
Ефим Фомич посмотрел на Сереброва так, словно тот приговорен был к страшному наказанию, и заговорил шепотом, в котором уже не было страха, но было сочувствие:
— Эх, молодо-зелено. Жалко, панте, тебя. По-отцовски тебе говорю: запутаешься. Реви, да не ходи.
— Ну а ты скажи, Ефим Фомич, почему «Победа» поднялась, а твой «Труд» не поднялся? — гнул свое Серебров, но Ефиму Фомичу не хотелось показывать себя неумехой.
— Ты не думай, я ведь рьяно за все брался, все, панте, подхватывал. Доильная установка «Елочка» у нас первая была в районе. И обо мне писали в газете.
— Ну а как Маркелов сумел выскочить? — не успокаиваясь, пытал Пантю Серебров. — Как Чувашов? Сухих вон гремит…
Командиров махнул обиженно рукой, скривился.
— Хапуга твой Маркелов, — и, пересев ближе к Сереброву, прошептал: — Он ведь всех ободрал, всех купил. Везде у него свояки, он что хочешь добудет, что хочешь построит. А я, панте, — ударил себя кулаком в грудь Ефим Фомич, — ни копейки колхозной не пропил, безотчетно не истратил.
Это считал Ефим Фомич высшим своим достоинством. А Маркелов не боялся тратить копейку там, где можно было взять рубль.
— Ну, ладно, спасибо за беседу, как говорят корреспонденты, — натягивая на голову шапку, сказал Серебров.
Однако Ефиму Фомичу расставаться с ним не хотелось.
— Погоди, — торопливо сказал он и начал рыться в ящиках вытертого стола. — Куда я ее дел? Куда?
Наконец Ефим Фомич протянул Сереброву какую-то бумагу, напечатанную на расхлябанной машинке с прыгающими буквами. Серебров прочел лихую размашистую резолюцию на уголке бумаги: «Вы бы еще попросили каменный топор», — и его щеки обожгло стыдом. Это ведь с его подсказки Генка Рякин закатил такой ответ на просьбу колхоза «Труд» выделить три конные сенокосилки. Теперь-то Серебров знал, что в этих лесных местах без конных сенокосилок не возьмешь траву. А вот они с Генкой, два острослова, для которых все тогда было трын-травой, написали такой ответ.
— И так, панте, бывало, — назидательно сказал Командиров пристыженному преемнику.
— А ты злопамятен, Ефим Фомич, — тряхнул головой Серебров.
— Нет, не злопамятный я. Не только ведь от Рякина и от Ольгина я такие бумаги получаю.
Читать дальше