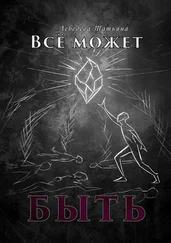Ахматова помолчала с минуту или больше, глаза ее сияли, улыбка не сходила с лица. Виленкин боялся прервать ее мысли и думал о том, сколько воспоминаний таится в голове этой семидесятитрехлетней женщины, пережившей раннюю славу, революцию, две войны и всех своих мужей.
Наконец Ахматова повернула к нему царственную голову и произнесла:
— Я вчера закончила очерк про Моди и хочу опубликовать его. Он был совсем не таким, как в этом пошлом французском фильме о нем… — очень горько! — Виленкин уже знал, куда будет обращен ее следующий взгляд. Единственный выживший у Ахматовой рисунок Модильяни висел над столом рядом с портретом Глебовой-Судейкиной. Обычно раздававшая всё, что бы ей ни дарили, Ахматова берегла этот рисунок, как реликвию. Рисунку было уже больше 50-ти лет. — Я знала его совсем другим, очень светлым, сероглазым, двадцатишестилетним. Может быть, конечно, он изменился потом… Как-то раз я зашла за ним в мастерскую в Париже, но не застала его. Ворота были закрыты. А у меня в руках была охапка красных роз. И от нечего делать я стала бросать цветы в открытое окно его мастерской. А после, когда мы встретились, он спрашивал меня, как я попала в запертую комнату? А когда я сказала, что бросала розы через окно, он ответил: «Не может быть, — они так красиво лежали».
Ахматова встала с кровати, на подмышке платья мелькнула большая прореха, оголив часть белья и руки. Достала с полки рукопись и протянула Виленкину:
— Вот, напечатайте этот очерк, друг мой! Здесь моя молодость.
Очень длинная жизнь Ахматовой оказалась тяжелой и как-то всё не складывающейся. Вместо дома у нее была Будка, вместо родной семьи — семья бывшего мужа Пунина. Был у нее родной сын, наконец вернувшийся из лагерей, которого Ахматова очень ждала и, конечно же, очень любила. Но отношения и тут не сложились. Они поругались в день его возвращения. Это были два сложных, капризных, обидчивых и твердых в своих убеждениях характера. Лев Гумилев никак не мог понять приверженности матери семейству Пуниных. Как и отец, он был очень ревнив, и его задевало, что мать называет их своей семьей, тратит на них свои деньги, а ему не может помочь обставить двенадцатиметровую комнатушку, так что ему пришлось просить пьяницу соседа сколотить книжные полки из старых досок. Ахматова и не пыталась ему объяснить, что много-много лет она жила приживалкой в доме Пуниных, разбив семью, и именно из-за нее детство Ирочки оказалось двусмысленным. Лев даже в пылу как-то назвал мать старухой-процентщицей. А Ахматова просто когда-то написала строки: «У своего ребенка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому», — вот и пришлось так же жить.
Лев Гумилев писал стихи, Ахматова некоторые из них даже читала, но комментировать не хотела. Гумилев чувствовал, что матери они не нравятся, и злился. И хотя Ахматова была последней, кому бы он хотел подражать, ее оценка имела для него значение. Он даже думал, что мать из «зловредства» слишком холодно и спокойно поздравила его с защитой докторской и выходом книги. Зато Ахматова восторгалась стихами этого высокомерного сопляка Бродского, который ходил к ней запросто, как к себе домой. И она, — всегда тщательно охранявшая своё личное пространство, — не оставляла между собой и этим рыжим Бродским никакой дистанции, общаясь абсолютно на равных.
Иосиф Бродский пришел к Ахматовой вечером того же дня вместе с Евгением Рейном. Августовские вечера становились уже прохладными. Оба были одеты по-дачному: в тренировочных костюмах с символикой СССР, у Рейна — поновее, у Бродского — с вытянутыми пузырями на коленках. Посмеиваясь друг над другом, они легко вскочили на высокое ахматовское крыльцо и, постучавшись для вида, тут же открыли ветхую деревянную дверь, выкрашенную зеленой краской, и вошли в домик.
— Анна Андреевна!!
— Аннушка! — гулко прокатилось по комнатам.
Ахматова, смеясь, встала с кровати, встретила их, приобняла и потрепала рыжего по загривку.
— Здравствуйте, здравствуйте!
Рейн тем временем деловито оглядел кухню:
— Так, Ося, бери ведро — и за водой! Сейчас, Анна Андреевна, воды принесем, чаю вскипятим, мы тут бубликов по дороге купили. Будем чай пить с бубликами!
Бродский театрально вздохнул: «В автобусе утром я еду туда, где ждет меня страшная рожа труда», — искристо улыбнулся и взял ведра.
— Что ж судьба твоя, знать, такая, — откликнулся Рейн.
— Женя, ты смеешься, а вот увидишь, буду жить у моря, носить фрак и играть в рулетку!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу