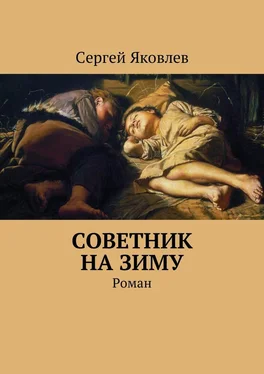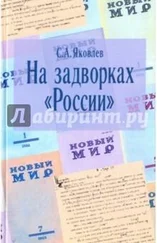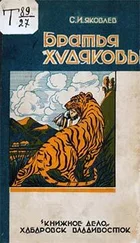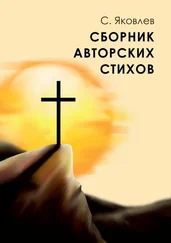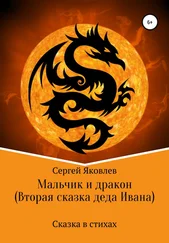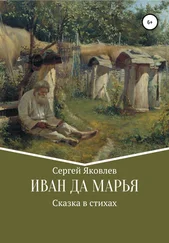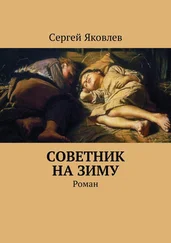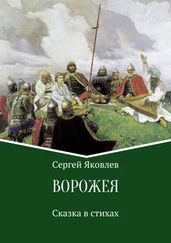Оттуда идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.
И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, последовали за Ним…
И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима и Иудеи, и из-за Иордана».
Иисус — «человек общительный». Он как раз из тех проповедников, что собирали вокруг себя полчища. По его же иронической самооценке (приведенной у Матфея), «человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Его остроумие и находчивость, уверенность в себе, умение держаться с достоинством, но без высокомерия, открытость и твердость не могут не привлекать. Он прирожденный гений общения. В какой-то момент он это осознает и, почувствовав открывающиеся перед ним возможности, уже не в силах противостоять честолюбивой эйфории лидерства и забывает про все на свете — «выходит из себя»:
«Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть.
И услышавши, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя…»
«Взять» — наверное, для того, чтобы прежде всего накормить, дать отдохнуть. Какая мать не тревожится о сыне?
«Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя.
И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?
И обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои…»
А ведь родственные, родовые связи, от которых отрекается Иисус, в ту пору играли особо важную роль. Родственники постоянно в ближнем окружении Иисуса, из них и первые ученики: Иаков и Иоанн Зеведеевы — это, собственно, его двоюродные братья, дети родной сестры его матери, которые попросят у своего учителя особо почетные места в будущем его царстве, захотят сесть рядом с ним… И разве не по праву? Разве это не естественное продолжение честолюбивых устремлений самого Иисуса?
Откуда им было знать, что его честолюбие — особенного, еще не слыханного ветхозаветным человеком свойства, и что в голове у «Царя Иудейского» — совсем иное царствование?
«Учитель! Мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо», — с такими речами подступают к Иисусу на глазах всего собравшегося народа желающие погубить его фарисеи. — «Итак скажи нам: как Тебе кажется: позволительно ли давать подать кесарю, или нет?» Как относился в большинстве своем иудейский народ к этой подати и к самой власти Рима, известно. Иисус разгадывает опасный замысел, но не может отступиться от своей просветительской миссии. Он просит показать ему монету: «чье это изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
Империя, ее ценности, ее политика в глазах устремленного к Западу провинциала не подлежат обсуждению. Риму не хватает разве что усердия и строгости в деле приобщения «рода неверного и развращенного» к культуре, умения использовать местные национально-религиозные условия, которые могли бы ему в этом споспешествовать.
Абориген Иисус сам берется восполнить эти недостатки имперского администрирования. Обращаясь к старым заветам своего народа, он превозносит все, что не противоречит культуроцентризму и «глобализации», по-новому толкует то, что может хоть как-то сгодиться, и полностью отвергает лишь элементы, совершенно чуждые западной традиции. Он пытается пересадить греко-римскую цивилизацию на родную почву, внедрить ее органично, понимая, что всякий иной путь губителен и для его народа, и для самой цивилизации.
Увы, «не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». Переживание Иисусом неизбежных в таком деле неудач, обостренное максимализмом молодости, оборачивается нетерпимостью и упреками: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида!.. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься…» Иисус сурово осуждает свой народ, за спасение которого взялся, — ибо есть с чем сравнивать. Есть «лучшие» народы, более просвещенные и гуманные, более богатые…
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть».
Вот почему: «если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Эту привычную, родную, но неправедную и темную жизнь требуется возненавидеть и оставить — ради другой, высшей. Вот почему: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу