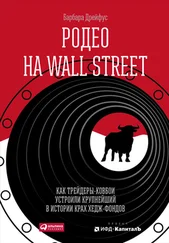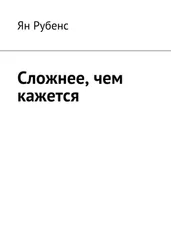Жизнь была трудная, пропитание приходилось добывать. Как-то раз, в июле 1942 года, моей маме ужасно захотелось молока, и обе мои бабушки отправились в молочную лавку в надежде его раздобыть. Обе не вернулись. С тех пор мама к молоку не притрагивалась. Не то что от вкуса, даже от его вида у нее до боли сжималось сердце. Отвращение к молоку она передала мне — такая вот унаследованная вина выжившего. В тот вечер, когда стемнело, их мужья, оба мои деда, наплевав на комендантский час, отправились их искать, и их мы тоже больше никогда не видели. Позже мы узнали, что всех их втихаря отправили в Дранси, место, куда свозили всех французских евреев, а оттуда — поездом в Аушвиц. Путем плоти, уготованным в то время почти всем французским евреям. Рассыпались в прах.
Когда взрослые исчезли, мои родители чудесным образом попали в группу детей, которых рискнули переправить через Па-де-Кале в Дувр, а оттуда в английскую провинцию, в приют. Родители не разлучались с рождения. Кроме этого я мало что о них знаю. Они редко рассказывали о своем детстве, они как-то умели поставить заслон, и это удерживало меня от дальнейших расспросов. Но я помню, с каким испугом они реагировали на имя «Эмиль». Как и у многих, кому удалось выбраться, у моих родителей рты были запечатаны — виной выживших.
Когда срок настал и обоим исполнилось девятнадцать, они поженились, а когда родился я, меня, необрезанного, отнесли в церковь и крестили. Эту ложь я теперь простил, потому что осознал, узнав историю их жизни, сколько им пришлось вытерпеть. Теперь им хотелось покоя — и для себя, и для детей. Поэтому я, когда вырос, не обращая внимания на навешанные на меня ярлыки, разделил их обет молчания — из уважения, и понимая, почему они молчат. Допускаю даже, что именно по этой причине я стал учителем в школе, принадлежавшей англиканской церкви: так я подписывался под их клятвой забыть прошлое. Я не прошу за это прощения, хотя теперь и вижу, что мои усилия были мало того что тщетны и бесполезны, но и подрывали мое чувство собственного достоинства. Надеюсь, занявшись этим исследованием самого себя, я найду свои истоки и с радостью обращусь к ним, я научусь идти дальше с моими дедушками и бабушками, которые, как шесть миллионов им подобных, шли в одиночестве.
4
Я должен прерваться. Мне принесли ужин, хотя за этими стенами сейчас только наступило время чая. Я представляю себе, как мои дети, Питер и Джин, сидят за столом на кухне. Моя жена, Люси, настаивает на кухне. В столовой, если таковая имеется, им будет тяжко — ведь во главе стола будет пустовать мой стул. На кухне ни у кого нет определенного места. Все садятся как попало, и так им спокойнее.
Здесь я ем в одиночестве, в своей камере. За исключением завтрака мне обычно удается есть одному. Мне так больше нравится, а начальник тюрьмы не возражает. О качестве пищи мне сказать нечего, разве что раньше я питался и получше. Но я не жалуюсь. Питание хоть и не изысканное, но обильное. Сегодня вечером я рад такой передышке. Писательство для меня занятие новое, для него требуется вглядеться в себя. Это не в моей натуре, но в нынешних обстоятельствах я обречен на рефлексию. На свободе я жил в мире с самим собой. У меня не было ни малейшего интереса себя исследовать. Я любил жизнь во всех ее проявлениях и просто продолжал жить. Но теперь я странным образом ничем не занят, и я предаюсь размышлениям о детстве и о родителях, а это уж точно первый шаг к рейду в прошлое. Писание способствует рефлексии, а в этом занятии я новичок. Поэтому сегодня я рад ужину. Я так вроде бы отвлекаюсь и могу перестать копаться в своих мыслях.
5
Если бы только маме в тот день не захотелось молока, моим дедушкам и бабушкам удалось бы выжить. Или не удалось бы. Они могли, конечно, по прихоти истории, родиться в Австрии и в таком случае оказались бы вторыми в очереди на Аушвиц. Но поскольку жили они во Франции, времени им было отпущено чуть больше, чем их соплеменникам в Голландии, Румынии, Польше, Венгрии или Чехии.
Но в конце концов разницы не оказалось никакой. Все встали в многоязыкую очередь растерянных, озлобленных, тщетно молящихся людей. Все. Молоко там или не молоко было тому виной.
Моих родителей до самой смерти мучили призраки их сиротского детства. О своей семейной тайне они говорили редко. Умерли они три года назад, друг за другом, с разницей в месяц, словно бремя тайны, даже в смерти было слишком тяжкой ношей для одного. К счастью, скончались они до моих неприятностей. Если бы они дожили, если бы стали свидетелями моих бед, они бы этого не вынесли. Поскольку из-за положения, в которое я попал, ложь раскрылась, оказалось, что годы их добровольного отречения были напрасны, все их усилия бессмысленны. Я любил их, любил обоих, однако, должен признаться, мне в некоторой степени стало покойнее, когда они умерли. Оплакивая их, горюя по ним, я не мог сдержать вздох облегчения, ведь они наконец были избавлены от жизни, в которой им приходилось что-то скрывать и идти на тягостный обман.
Читать дальше
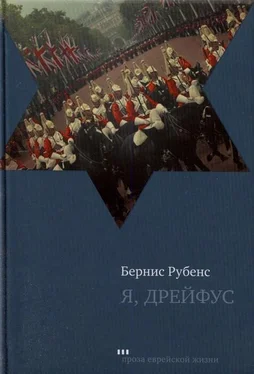

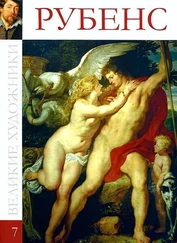
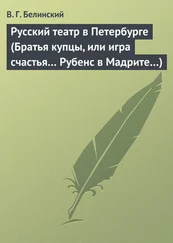

![Лилия Бернис - Игра в кошки-мышки [СИ]](/books/400119/liliya-bernis-igra-v-koshki-myshki-si-thumb.webp)
![Лилия Бернис - Рога под нимбом [СИ]](/books/400121/liliya-bernis-roga-pod-nimbom-si-thumb.webp)
![Лилия Бернис - Жнец поневоле [СИ]](/books/400122/liliya-bernis-zhnec-ponevole-si-thumb.webp)
![Лилия Бернис - Путь на север [СИ]](/books/410032/liliya-bernis-put-na-sever-si-thumb.webp)
![Лилия Бернис - Душа грозы [СИ]](/books/410033/liliya-bernis-dusha-grozy-si-thumb.webp)