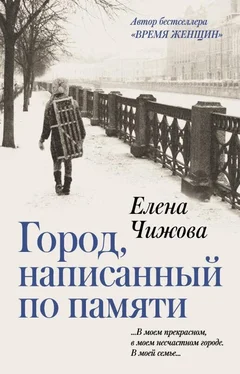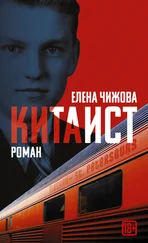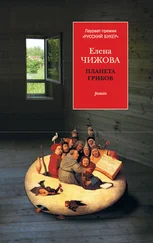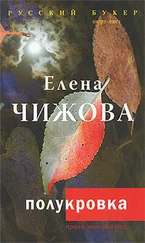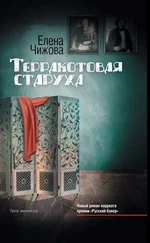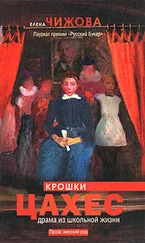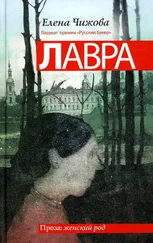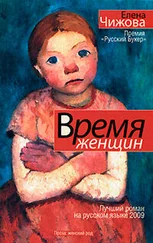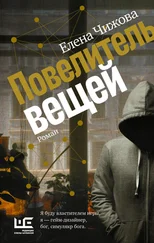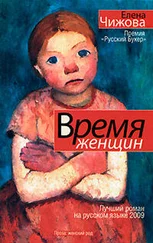В Петербурге все было не так. Город не разрастался, а выплескивался: сперва за Неву, а потом все дальше, за реки и каналы. Так повелось с самого начала, когда, потоптавшись на правом берегу (где стоит его крепость, а рядом, на соседнем острове: первая городская площадь, сотворенная решительной царской рукой, и две изначальных улицы, Дворянская и Посадская – на одной из которых я, так уж вышло, теперь живу), город взял да и перемахнул на левый. Ну и как прикажете разрастаться, если между двумя берегами нет и не предвидится (по крайней мере, в обозримой перспективе) никаких, даже «плавучих», мостов, а курсируют утлые суденышки, всевозможные боты и ботики, челны и челноки?
Человек, вырванный из привычной комфортной среды, пересаженный в эту, чуждую для него, болотистую почву, и сам подобен дереву или кусту. Он будет чахнуть, да еще и не факт, что выживет, во всяком случае, без ущерба для здоровья – морального и физического. А тем более в те давние (три века назад) времена, когда Петербург – все еще город без истории, без опоры на род и семейную традицию, куда не столько переезжают, сколько приезжают: все, от вельможи до распоследнего лакея. Да не как в Москву – разогнать тоску, а с какой-нибудь далеко идущей практической целью (город – средство). И достигнув (а чаще не достигнув) этой своей цели, уезжают обратно – умирать, так и не догадавшись, что угодили не в новую имперскую столицу, и даже не в европейский город – перепрыгивая с болотной кочки на кочку, Петербург до матушки-Европы еще долго не дотягивал, – а в город как таковой. В идею города: абстрактную, сродни платоновской, но одновременно еще какую конкретную – своего рода полигон (первый и единственный на всем пространстве средневековой России), где новая, городская, цивилизация, идущая в ногу с большим – не «остатним», а остальным – миром, рождается не вдруг, а постепенно, век за веком, в расчете на то, что еще долго ее придется доводить до ума. Под каждой страницей «петербургского текста» – муки деревенской роженицы, дающей жизнь этому горластому младенцу. И потом с тревогой наблюдавшей, как он рос, строился, менялся – без оглядки на муки и страдания тех, кто его населял.
Понадобилась целая череда поколений, чтобы вывести генетически модифицированный тип человека [50], эдакого homo peterburgus’а, для которого здешнее «нечеловеческое» пространство – живая, естественная среда. Под тиглем, где варился этот новый хомо-гомункулюс, пылал огонь истории, то ярко вспыхивая, то почти угасая – в зависимости от того, какой алхимик над ним колдовал и какой повар выплескивал из этой емкости ее готовое, только-только и едва-едва отстоявшееся содержимое, чтобы, пошуровав железным половником по российским провинциям и зачерпнув чего погуще, плюхнуть этой донной густоты в полуопустевшую выварку – и так раз за разом. Множество раз.
Стоит ли удивляться, что иной среды мы не знаем, да и не хотим знать. Мы, с кем история, городская повивальная бабка, разделывалась, не кривя душой, решительно и прямо, на всякую кривизну глядим недоверчиво, недоумевая: куда она может завести?
Душа петербургского человека, вдоль и поперек расчерченная прямыми, строго по линейке, линями, порхает над решетками рек и каналов, не слишком разбирая, что там внизу: вода или земная твердь. Ведь это сегодня она твердь, а уже завтра, если боги здешних, ингерманландских, мест прогневаются, ее может размыть. Как станцию метро «Площадь Мужества», под которой – как ни старались инженеры, как ни укрепляли опасные грунты́, замораживая их сжиженным азотом, – все равно разверзлись подземные хляби. А то еще нежданно-негаданным наводнением – если прорвет вдруг дамбу, и ветер, западный, дующий с залива, примется гладить невские воды против шерсти, и они час от часу станут набухать, пока не сольются со свинцовым небом, а потом, по радио, начнут объявлять контрольные цифры, и все будут к ним прислушиваться и сравнивать с уровнем ординара, надеясь, что до катастрофических трех метров на этот раз не доберется – но уже чувствуя, как где-то там, в глубине души шевели́тся, готовясь вырваться наружу, гибельный восторг.
Впервые я ощутила его в третьем классе, когда нам (голосом школьного радио) объявили, что никого не выпустят до тех пор, пока вода не отступит и за нами не придут: бабушки, дедушки, родители, от которых нас отрезало наводнением, темной водой канала Круштейна. И потом, собравшись у окон, мы смотрели, как вода, став – в первые часы – вровень с набережной, перекатывается за чугунную решетку, и под слоем воды, покрывшей проезжую часть и уже подбирающейся к стенам, шевеля́тся чугунные крышки люков, словно готовятся всплыть и закачаться на волнах, а между ними, нисколько не боясь и даже бравируя, несется одинокий мотоциклист, взрезая и разбрасывая водяные пласты широким, веселящим душу, веером, и его мотоцикл ревет, как вырвавшийся из неволи зверь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу