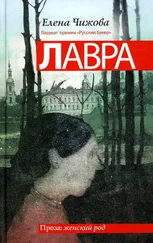В моем распоряжении был и общественный транспорт. Хочешь, садись на автобус (№№ 2, 3, 22, 27, остановка у ДК Работников связи: сюда, в бывшую реформатскую церковь, в большевистские времена ей отсекли голову, я ходила с первого класса по пятый – в балетный кружок, где и рассталась со своими детскими мечтами о партии Огневушки-поскакушки) и отправляйся, скажем, на Невский: в ДЛТ за писчебумажными принадлежностями. О, этот выбор тетрадных обложек – не унылых, двухкопеечных, с таблицей умножения и мерами длин и весов на обороте и портретами героев-пионеров на лицевой стороне, а полноценных, коленкоровых, покрытых много- и разноцветными разводами: ни дать ни взять запретные полотна абстракционистов (в те годы я и слыхом о них не слыхивала); или в музыкальный магазин за виниловыми пластинками – не нынешний, рядом с Домом Книги, а тот, исполненный музыкальных звуков, напротив Гостиного Двора. До него можно было доехать и на троллейбусе: № 5 и № 14, ближайшая от моего дома остановка у здания Главпочтамта – только не с парадного входа, где отдел посылок и нарядный операционный зал (тот самый, в котором, расположившись за столами, мы вели «царскую» переписку), а с тыльной стороны, выходящей на бульвар, где работали изнаночные почтовые службы, в том числе «режимные».
Если назвать мои тогдашние прогулки одним словом – пусть оно будет: беззаботные. Это слово исчезло после бабушки-Дуниной смерти.
Умирала бабушка молча. Та разновидность тяжкого недуга (в нашей семье наследственного – по женской линии), которая досталась ей, тянется долго, но не терзает болью. Наша участковая так и сказала: не мучается, но наберитесь терпения – крепкое сердце, оно-то и держит, не дает уйти.
Какие мысли шевелились под спудом ее молчания – Бог весть. Быть может, на эти шесть последних месяцев она вернулась назад, в свою родную деревню, где ее предки принимали смерть смиренно – как нечто само собой разумеющееся, как обряд перехода: из жизни временной в жизнь вечную. А быть может, ее крепкое сердце, угодившее в тенета города, роптало, жалуясь на судьбу: дескать, не случись большевистского переворота, все могло сложиться иначе, да и в любом случае – могло.
Или, оглядываясь назад, она пыталась осмыслить свою жизненную стратегию: была ли она благоразумной – не в том смысле, на котором зиждется учение о «верном и благоразумном рабе», коего господин поставил над своими домашними, чтобы давать им пищу вовремя (все, что по части пищи и остальной домашней колготни, воплотила собою ее дочь, впрочем, ни над кем и никогда не стоявшая), – а из притчи о «благоразумных и неблагоразумных девах»… [48]
За неделю до смерти бабушка впала в беспамятство, изредка нарушаемое сдержанными (как все в ее характере и натуре) стонами. Сосредоточенная на своих школьных уроках (мой секретер стоял в той же комнате, что и бабушкина кровать), я успела к этим звукам попривыкнуть. По недомыслию мне казалось, что смерть далеко и стоны будут длиться долго, всегда…
Когда она обратилась ко мне, я вздрогнула – так отвыкла от ее ясного голоса.
– Потерпи… я скоро уйду, не буду… мешать, оставлю тебя…
– Что ты, бабушка! Да разве ты мне мешаешь, – я ответила, не особенно вдумываясь ни в свои, ни в ее слова.
Приняв ее слова за излишнюю старческую деликатность. Ведь никогда, ни единым словом, ни тяжким вздохом мама (взявшая на себя все обязанности по уходу: мытье, обработка мест, грозящих пролежнями, регулярная смена белья, кормление с ложки – впрочем, больная уже почти не ела) ее не попрекнула. А тем более мы с сестрой, которых эти стороны жизни и вовсе не касались.
Подавив мимолетную обиду, я погрузилась в английский текст, откуда выписывала новые слова, чтобы хорошенько их вызубрить – являя (кому – городу? миру?) пример ложной сосредоточенности, которая мешает заметить то, что впоследствии окажется самым важным: бабушка не спросила, здесь ли я? – будто знала, была уверена: где же мне еще быть. (Притом что в комнате было тихо: я же не листала словарь, я выписывала слова в тетрадку – шелеста пера по бумаге бабушка расслышать не могла, последние годы она плоховато слышала, временами, в разговоре, даже закладывала за уши сгибы головного платка.)
Да и сами слова. Меня царапнуло: «не буду мешать». А другое, которое за ним последовало, словно бы упало, закатилось под шкаф, потерялось. Ее последнее: «…оставлю тебя».
Мне и в голову не пришло задуматься. Где она меня оставляет? В комнате, в Ленинграде – круги ее брошенных напоследок слов неудержимо ширятся, – в жизни, в нашей общей семейной истории, в которой я должна взять на себя ответственность: за самоё память, за достойное продолжение «городского дела», которое она, первая из женщин нашей семьи, начала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу