— Нет, совсем нет. Думаю, мадам Нозьер была тронута тем, что ты подарила ей свое доверие.
Спаситель вдруг заметил, что Элла топчет ногами тетрадь и обложка уже вот-вот оторвется.
— Почему ты это делаешь?
— Потому что все это ерунда.
Спаситель понял, что произошло еще что-то после разговора с мадам Нозьер, и, слушая рассказ Эллы, страдал не меньше нее. А случилось вот что. Одна девочка, тоже ходившая на уроки латыни, услышала начало разговора Эллы с учительницей, подошла к ней на следующее утро и сказала, что тоже пишет. Потом попросила рассказать ей, про что будет роман Эллы, и все время говорила: «Супер! Интересней, чем „Гарри Поттер“!» Элла могла бы насторожиться, слыша такие похвалы, но какой начинающий писатель удивится, если в нем распознают гения? А на самом деле эта девочка, Марина Везинье, хотела только посмеяться над ней. Она пересказала сюжет романа подружкам в самом нелепом виде. В пятницу, когда Элла вышла из столовой, пять девочек из параллельного класса, те самые, которые ее дразнили, окружили ее, стали изображать поклонниц и просить автограф.
— Они кричали: «Вы мой любимый автор! Жду не дождусь продолжения!» — Элла изображала насмешниц и продолжала топтать тетрадь.
Спаситель со вздохом подумал, что Алиса Рошто тоже вполне могла быть в их компании. В самой жестокой травле гораздо больше глупости, чем злобы. Алиса наверняка не была зачинщицей, но эпидемия могла распространиться и на нее.
— Дома, — продолжала Элла, — когда мама видит, что я пишу, обязательно скажет: «Опять за свои каракули?» А в воскресенье, когда я сказала за завтраком: «Буду большой, стану писателем», папа заметил: «Большой будешь, но уж великой — никогда». Наверное, он так пошутил… Марина мне тоже сказала: «Мы же шу-у-утим! А ты сразу обижаться! У тебя совсем нет чувства юмора».
— Ты не могла бы поднять свою тетрадку? — прервал девочку Спаситель, видя, что от тетради вскоре останутся одни клочки.
Элла поддала тетрадь ногой, но Спаситель поймал ее. Он даже потрудился достать из ящика стола скотч и приклеить обложку.
— А теперь послушай меня, Эллиот, — сказал он, возвращая тетрадь владелице. — Я тебе запрещаю, слышишь? Запрещаю уничтожать свой роман. Воображение, стремление писать выделяют тебя, делают особенной личностью, и девочки тебе завидуют.
Он не хотел пугать Эллу и не стал говорить, что ее травят, хотя подобного рода шутки легко превращаются именно в травлю. И дело было не только в творческой натуре Эллы, а еще и в ощутимой в ней двойственности. Именно она беспокоила и раздражала девочек.
— А когда твоя мама говорит: «Опять за свои каракули!», ты представляй себе курицу, которая высидела утенка.
Элла представила себе курицу с утенком и улыбнулась:
— Дайте мне предложение на НЕ и НИ с глаголами.
— С удовольствием. Как пишется: «Сколько ни старайся, от себя не убежишь»?
— В первом случае НИ, во втором — НЕ. — Элла опять улыбнулась. — Приведу этот пример мадам Нозьер.
Быстрым шагом с синей сумкой на плече Элла шагала по улице Мюрлен.
Спаситель вернулся в кабинет. Он сомневался, что мадемуазель Мотен появится, хотя и собиралась. Прошло пять минут после срока, десять… Спаситель обрадовался, как школьник, узнавший, что учитель заболел. Он стал просматривать журнал, предоставив опаздывающей пациентке еще пять минут, прежде чем запереть дверь. Услышал на улице детский плач и выглянул в окно. Мадемуазель Мотен поднималась на крыльцо по ступенькам, таща в руках сумку-переноску с ребенком. Спаситель поспешил открыть перед ней дверь.
— Не могла же я оставить его в машине, — сердито бросила она, словно психолог в чем-то ее упрекал.
Сумку она тащила, как обычную хозяйственную и так же небрежно поставила ее на кушетку.
— Фу! Ну и тяжесть! Говорю сразу: здоров, сыт, сухой. А что ревет, так он каждый день ревет в это время.
— «Но к ночи язвительней горечь страданья, больных сумрак ночи за горло берет…» [18] Ш. Бодлер. Вечерние сумерки. Перевод Эллиса.
— Это еще что? — спросила Пенелопа все так же сердито — ей нравилось говорить с психологом таким тоном.
— Бодлер. «Вечерние сумерки». В семь часов вечера всем тоскливо.
Он присел возле малыша и отметил, что Пенелопа и на этот раз солгала. Она сказала, что родила год тому назад, но младенцу было не больше четырех месяцев. Он орал во всю силу легких, красный от напряжения и, конечно же, от жары, задыхаясь в пуховике «Тартин и Шоколя».
Читать дальше




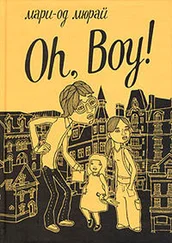

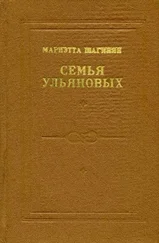
![Мари-Од Мюрай - Спаситель и сын. Сезон 5 [litres]](/books/394287/mari-od-myuraj-spasitel-i-syn-sezon-5-litres-thumb.webp)

![Мари-Од Мюрай - Спаситель и сын. Сезон 4 [litres]](/books/406226/mari-od-myuraj-spasitel-i-syn-sezon-4-litres-thumb.webp)


