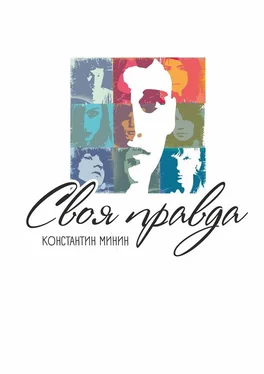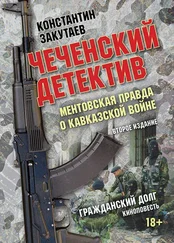Но это вовсе не означает, что мы, живущие, до момента собственной смерти никогда не сможем выбраться из своей оболочки и почувствовать другого человека, или людей, или весь мир таким, какой он есть. Она сказала, что каждому человеку дана такая возможность, но многие люди так привыкли к своей оболочке, что боятся выглянуть за ее пределы, а, вернее, боятся впустить что-либо внутрь ее. Именно так, познать что-либо таким, какое оно есть на самом деле, означает впустить это внутрь своей оболочки, только так рождается и существует любовь.
Многие ошибочно путают страсть, похоть, влечение, корысть, любопытство с любовью, но все это не то. Любовь чаще всего не имеет внешнего проявления, она появляется тогда, когда ты впускаешь в свою оболочку что-либо или кого-либо, и тогда его радость становится твоей радостью, его счастье становится твоим. Именно тогда любовь может заставить тебя плакать потому, что в этот момент ты начинаешь чувствовать чужую боль, но чувствуешь ты ее только лишь потому, что эта боль больше не является чужой. Она твоя, она часть твоего мира, и твоя личная оболочка тебя от нее не защищает.
Она сказала мне, что плачет не потому, что она расстроилась, и не потому, что ей обидно, она плачет, потому что чувствует мою боль. Так было, есть и будет.
Тогда я еще не мог признаться себе в том, что я не свободен в своих действиях, постольку-поскольку есть кто-то, кто меня любит; в том, что я несу ответственность за того, кто впустил меня в свой мир; в том, что от меня зависит, чем я его наполню. Но я чувствовал, что я больше не могу говорить, что мои поступки касаются только меня. Теперь я знал, что это подло по отношению к тем, кто любит меня, не отдавая себе отчета в источнике этого знания.
* * *
Понимание Таниных слов появилось во мне внезапно, словно оно было рождено когда-то давно и только ждало удобного момента, чтобы показать себя во всей красе. Словно холодным душем окатило меня осознание собственной несвободы, я вздрогнул и открыл глаза. Солнце уже поднялось над горизонтом, на улице за постриженными кустами сирени, гудели автомобили, а пригретые весенним теплом воробьи шумно делили что-то в окружающих меня зарослях.
Мне больше не хотелось ни о чем думать и ничего вспоминать, я размял затекшую спину и подгоняемый чувством вины и голодом шаркающей походкой побрел домой.
Едва войдя во двор, я заметил полицейский «УАЗик», припаркованный около моего подъезда. Пробежав оставшееся расстояние, я быстро поднялся по лестнице и обнаружил дверь моей квартиры открытой. В гостиной работал телевизор, а из кухни доносился хруст битого стекла, расползающегося под подошвой чьих-то ботинок.
Единственное, о ком я мог думать в этот момент — это мама. Я был уверен, что с ней что-то случилось, и я почти не сомневался в том, кто в этом виноват.
Выбежав в кухню, я увидел топчущегося по осколкам битой посуды полного мужчину, втиснутого в узкую куртку полицейской формы. В одной руке он держал кружку моего отца, а другой запихивал в рот большой кусок бутерброда со вчерашней колбасой.
— Где мама? Что он с ней сделал? — выпалил я в слегка ошарашенного служителя правопорядка.
Дожевав бутерброд и отхлебнув очередной глоток чая, он уже спокойным тоном спросил:
— Мальчик, ты кто?
— Как кто? Я живу здесь!
— Звать тебя как?
— Сережа.
Потеряв ко мне остатки интереса, он набрал в грудь воздуха и выкрикнул в пустоту коридора у меня за спиной:
— Товарищ сержант! Он здесь!
После чего взял меня за плечо и, глядя в глаза, спокойно сказал:
— Поехали с нами, Сережа.
Пухлый полицейский и товарищ сержант вывели меня из квартиры, а на дверь повесили защитную печать. По мне, уж лучше бы просто прикрыли дверь, так бы она хоть внимания к себе не привлекала.
В этот момент у меня не осталось сомнений в том, что он ее убил.
Эта догадка, как часто бывает в первые минуты горя, не вызвала во мне ничего кроме гнетущего чувства пустоты где-то в глубине груди. Мне не хотелось ни плакать, ни кричать, я сам удивлялся тому спокойствию, с которым я обдумывал свое новое положение. В голову приходили одна мысль за другой, и все они сводились к тому, что моя жизнь теперь сильно изменится, что отца посадят в тюрьму, а меня непременно отдадут в детский дом. В этот страшный момент я мог думать только о себе. Нет, я, конечно, думал о маме, я пытался осознать, какое несчастье могло с ней случиться, и даже совершенно искренне пытался вызвать в себе ощущение горя, но, если честно, у меня это не очень хорошо получалось. Мои мысли вновь и вновь возвращались к моей персоне.
Читать дальше