Его глаза моментально наливаются кровью. Он делает долгий выдох, надувая при этом щеки и качая головой из стороны в сторону. И у меня в горле тоже вдруг запершило. Довале снова пьет. Делает большие быстрые глотки. Я должен вспомнить, что делал в то время в Беер-Оре, когда он шел за прапорщиком в палатку. Но как можно вспомнить эти подробности спустя столько времени?
Все-таки я вытаскиваю себя из этого зала. Я должен установить истинный порядок вещей. Я допрашиваю себя без всяких скидок. Всеми силами пытаюсь воскресить в себе того юношу, каким я был тогда, но он снова и снова рассыпается в моем сознании, словно отказываясь удержаться, существовать, вынести этот допрос. Но я ему не уступаю. Я полностью сосредоточиваюсь на этих моментах. Эти мысли даются мне нелегко. Довале все еще молчит. Возможно, своим обостренным, тонким чутьем ощущает, что сейчас мое внимание сосредоточено не на нем. Но я заставляю себя по крайней мере задавать требуемые вопросы: думал ли я о Довале каждые несколько часов после того, как того увез армейский автомобиль? Не помню. Или хотя бы один раз в день? Я не помню. Когда именно я понял, что в лагерь Беер-Ора он уже не вернется? Не помню. И как же мне не пришло в голову выяснить, куда его увезли? Почувствовал ли я облегчение от того, что он вдруг пропал, или даже обрадовался его исчезновению? Я не помню, не помню!
Я только знаю, что это были первые мои дни любви с Лиорой. И поэтому притупились, потускнели все другие чувства и мысли. Я знаю также, что после лагеря я не вернулся к частным урокам математики. Я объявил родителям, что меня это никоим образом не устраивает. Говорил с ними агрессивно, буйно, несдержанно, и это их испугало. Они сдались, уступили и списали всю вину за это на дурное влияние Лиоры.
Он на сцене, напрягаясь изо всех сил, расставляет руки в стороны, и его улыбка растягивается вместе с ним:
– Говорю вам, госпожа учительница, вас, возможно, это удивит, но наличие пилы имело свою причину, поскольку мой абу́я, настоящий промышленный магнат, представьте, занимался еще и текстильным бизнесом, да-да. Своими трудолюбивыми руками он создал собственную торговую марку в области переработки тканей « А́лте за́хен [119] А́лте за́хен – «старые вещи» ( идиш ), крик уличных старьевщиков-евреев в городах царской России и Европы. В Израиле старьевщики-арабы так же призывают жителей выносить старые вещи.
, дот, ком». Покупал и продавал тряпье, нашел себе благородное занятие на обеденный перерыв в парикмахерской. Еще один престижный проект…
Уже некоторое время среди публики слышится шепот. Мне трудно установить, откуда он исходит. Взор почти каждого, в кого я вглядываюсь, кажется, прикован к сцене, увлечен рассказом и рассказчиком – возможно, вопреки собственному желанию, иногда даже выражая всем видом отторжение и ужас, – и тем не менее в последние минуты из недр публики доносится какое-то жужжание, словно из отдаленного улья.
– Он объезжал иерусалимские кварталы на своем мопеде «Сакс», покупал у людей тряпье, старую одежду, рубашки, брюки…
Теперь он и сам, по-видимому, чувствует жужжание. Голос его возвышается до воплей старьевщика:
– А́лте за́хен!..
Он идет на подкуп публики совершенно бесстыдно, лихорадочно и отчаянно:
– О-де-яла, на-во-лоч-ки, по-ло-тен-ца, прос-ты-ни, старые под-гуз-ники… А потом, после стирки, он все сортировал в соответствии с видом ткани и размерами…
Жужжание переходит в бормотание, которое доносится уже из каждого угла и обволакивает зал со всех сторон.
– А теперь, братья мои, слушайте хорошенько, я подхожу к самой сути, никуда не уходите. Он усаживался на пол в комнате джинсов и сортировал, раскладывая тряпье быстро-быстро, будто карты сдавал: это – сюда, а это – сюда, т-з-з-з, т-з-з-з , кучка таких вещей и кучка других; это было настоящее предприятие, не относитесь к нему с пренебрежением, и тогда он проводил рубашки, брюки, куртки сверху вниз по пиле, отрезая отбросы, которые не пойдут в дело, всякие пуговицы, замочки-молнии, булавки, застежки, кнопки, все это попадало в сетку – но не беспокойтесь, он это продаст одному портному из квартала Меа Шеарим, в его вселенной ничего не пропадало, – а затем паковал тряпки в пачки по сто штук, я ему в этом помогал, я любил это делать, а в конце мы вместе считали: « Ахт ун на́йнцик, найн ун на́йнцик, ху́ндерт! » [120] Девяносто восемь, девяносто девять, сто ( идиш ).
Вдвоем мы увязывали пачки шпагатом, и он уходил, продавал тряпье в гаражах, в типографиях, в больницах…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




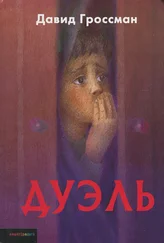


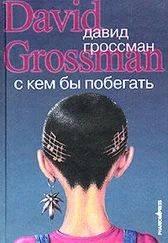

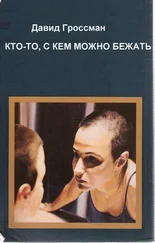

![Давид Гроссман - Будь ножом моим [litres]](/books/432501/david-grossman-bud-nozhom-moim-litres-thumb.webp)
