А это! Такого потрясения, чисто морального, я не испытывала уже давно. К несчастью, этот Папин позор увидела старушка гримёрша, согнувшаяся как раз в этот момент к нашему окошку, чтобы тактично поторопить с выходом на сцену. А тут! Папа вздрогнул и стал рыдать. Он, конечно, как Папа, меня любил, но ещё больше, видимо, любил своего непутёвого сына, которого я должна была наставить на путь, а ещё больше, как местный мафиози, он ценил законы чести, и поэтому был обязан меня убить. Не лично, конечно, а через доверенных лиц. Мы выбрались из каморки на четвереньках и на четвереньках же разошлись. Дело привычное.
Тут, мне на счастье, подошли какие-то религиозные праздники — давно заметила, что Бог любит меня. Исполнители ждали более удобного времени, но, боюсь, оно могло оказаться не таким уж удобным для меня. Но вот сегодня, судя по скорби Папы-до-полу и непомерному употреблению алкоголя, он планировал расстаться со мною навсегда. И тут снова мольба моя сработала — явился Он! Не красавец, конечно, но кто же пьёт воду с лица, когда уже смерть фактически дышит в затылок!
Папа рыдал, я, рыдая, посылала поцелуи. Трагедия, достойная пера Шекспира: любовь и честь! Долг и любовь. Но в головке моей крутился почему-то совсем другой сюжет. И когда танец морских коньков кончился и Папа, рыдая, обрушился на стол (что, наверное, одновременно было для киллеров командой «Заряжай!»), я соскочила со сцены и, виляя задиком, плюхнулась на колени этому русскому, обвила голыми ручонками его шершавую шею, растопырила губёнки и стала нетерпеливо ёрзать, как бы распаляя его — поначалу на пунш. Я стала играть «зиппером» на его брюках туда-сюда — и, надо же, результат объявился сразу, что показалось мне хорошим симптомом! Язычком я облизала его губы, потом приблизила свои и выдохнула: «Не говори по-русски!» Он отстранился несколько удивлённо, но мало ли чем я могла шокировать гостя? Потом я запустила язычок в ушную раковину и сквозь чавканье как-то озвучила:
— Мне надо спасаться. Сейчас. Помоги.
Он отклонился ещё более удивлённо, но смотрел на меня спокойно и подготовленно. Ну ясно, неспокойные и неподготовленные и не приплывают сюда. Ну же!
Взгляд его говорил:
— Да я же с тобой, детка, сделаю теперь всё, что захочу!
— Ну сделай же! Сделай! — молил мой взгляд.
И надо сказать, забегая вперёд, что он сделал именно то, что хотел. Не обманул. А сейчас он зарылся слегка носом в мою пышную рыжину и проговорил — не громко, но и не так уж чтобы совсем не слышно:
— Товсь. Час местного. На пирсе.
Я жарко к нему прильнула и стала целовать — лицо, шею. Потом он говорил, что больше никогда я столь тщательно его не целовала... Тщательно — да.
Но акцентировать моё внимание и, главное, внимание общее на нём не стоило. Я вдруг звонко воскликнула: «Шойзе»! (дерьмо) — и, оттолкнув его потную лысину, грациозно вскочила, что, впрочем-то, могло быть принято и за кокетство, за игру — никто особого внимания и не обратил. Папа рыдал уже совсем безудержно, уже не по Уставу, будто бы это он, а не я должен был покинуть этот мир. Может, я сейчас и казалась ему самым прекрасным, что он теряет навсегда? Бывает.
Времени тем не менее терять не следовало, тем более со сцены уже неслись зазывные звуки коронного нашего номера «Колокольчики» (хореография моя). Надо было ещё успеть переодеться — в той самой каморке с зеркалом под сценой, где Папа давал мне свой прощальный трагический урок. Я быстро скатала свои трусики и ввинтилась в золотые, с колокольчиком. Подружки были уже крепко дунувши и хрипло переругивались.
Мы впорхнули на сцену. «Колокольчики». «Колокола». Хореография моя. Мы прыгали на широко раздвинутых, согнутых в коленях ногах, размашисто двигая тазом вперёд-назад, у каждой колокольчик имел свой размер и высоту тона. Впрочем, и из нас каждая тоже имела свой размер и высоту — пышная блондинка Света, суперстройная Галя и я, грациозная азиатка с гладкими кривоватыми ногами наездницы, с раскосыми, как бы бешеными, зелёными глазами и рыжей копной. Мы, всё больше распаляясь под взглядами, качали колокола всё чаще, три звонких колокольчика под дугой, повешенные в самой интимной точке, почти захлёбывались. Опытные посетители знали, что мы долго и тщательно пришивали их так, чтобы их дужка задевала при движении самое болезненное и сладкое, прикосновение к чему доводит до сумасшествия, все смотрели на наши движения, на наши всё более разгорающиеся и цепеневшие лица, мутнеющие глаза, и, когда мы, все трое, кто застонав, кто зарычав, упали на сцену, зал в ответ не засвистел и не взорвался аплодисментами, а тоже захрипел и зарычал. Некоторое время мы лежали недвижно, действительно не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Светка вообще после этого как бы умирала, и её, выдержав эффектную паузу, за руки, за ноги уносили со сцены, вызывая в зале новый одобрительный хрип.
Читать дальше
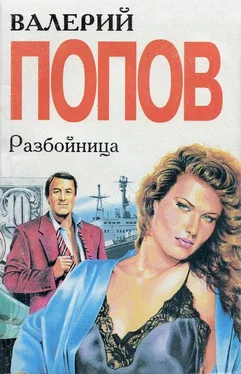

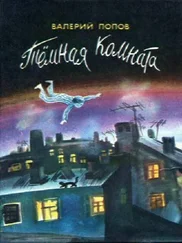
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
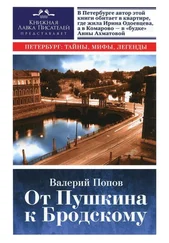
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)