Красный и зеленый огоньки... Тридцать первый! Наконец-то! Встречают его, что характерно, с гораздо большей ненавистью, чем астральный двенадцатый. Ненавидя, втискиваются, вопят на водителя: «Где тебя носило? Обледенели тут!» Ненависть вся и достается тому, кто что-то делает...
Постепенно в темноте салона все умолкают, сосредоточиваются на ощущениях... вроде отпустил холод? Сопенье, запах прелой одежды...
Но самый прелестный — девяносто пятый, автобус-подарок!
Его вроде бы и не существует, номера такого нет на скрипящей под ветром доске. Скорее — это автобус-миф, «летучий голландец». Очень редко и каждый раз внезапно он вдруг выныривает из бесконечной, уходящей куда-то в космос, боковой улицы и появляется неожиданно и слегка как бы озорно: «Ну что? Не ждали, да?!» Стоит перед поворотом к остановке, весело, как одним глазом, подмигивая подфарником: «Сейчас к вам сверну!» Реакция на него всегда самая радостная: «Явился! Гляди-ка ты! А говорили, что его отменили! Как же — вот он!» Девяносто пятый — это везенье, неожиданное счастье — на него только и надеются в этой размеренной жизни, только он и радует. Его любят гораздо больше, чем унылого трудягу тридцать первого, хотя появляется девяносто пятый крайне редко... Вот пойди тут разберись! Но этот «автобусный эпос» — самое первое, что появляется в этой тьме, самое первое Слово, от которого все пошло. Слово, превратившее немую, разобщенную толпу в живое человеческое сообщество. «О! Явился!» Все счастливы, оживлены. И настроение на работе другое — в тот день, когда прилетел на девяносто пятом.
А ты еще не мог вспомнить, чем ты тут жил, в этом пустом пространстве! Еще как жил! Даже настроение, повторяю, было другое, когда прилетал на «летучем голландце»: общение в салоне было самое дружеское, все объединены были общим везеньем и счастьем... Может быть, как всякий соавтор эпоса, я все слегка упрощаю и укрупняю. Но надо, чтобы кто-то это делал; чтобы «эпос» остался, не растворился в размытой обыденности.
После автобуса и электрички втиснувшись еще и в троллейбус, я добирался наконец до Александро-Невской лавры, места своей работы. Тогда кельи и трапезные монастыря были в основном заняты всякими КБ, НИИ и п/я — тайны религии были на время вытеснены другими тайнами, военными. Хотя и старина сильно действовала, давила, угнетала: переход по скрипучему деревянному мосту через темную, с крутыми берегами Монастырку, далее — под низкие тяжелые ворота с надвратной церковью; потом обступали со всех сторон кресты кладбища. Обычно именно в это время за темными куполами начинал брезжить холодный, розовый, тревожный восход. Ощущение: не надо тебе сюда ходить, зря ты сюда идешь, зря вторгаешься в эту монастырскую, могильную зону — она тебе отомстит. Уже сейчас гнетет тебя — чувствуешь?
Но советская власть потому и исчезла, что ничего такого не чувствовала, тупо перла в монастыри и на кладбища, строила там заводы и метро — но люди чувствовали это и тихо погибали.
Тяжелая, сжимающая бока винтовая лестница, тусклый сводчатый коридор. Постояв у двери в комнату, открываю ее. Мало что есть страшней и неуютней пустой комнаты, озаренной красным зимним восходом. Случайными и жалкими выглядят поставленные друг на друга серые кузова приборов. Эти таинственные, страшные купола в небе, красное, дикое светило, тяжелая толпа склепов и крестов под окном — вот настоящие хозяева этих мест!
Входили сотрудники, разговаривали, сначала тихо, потом все громче, начинала понемножку сплетаться наша жизнь — и та страшная, древняя сила, стоявшая за окном, вроде бы отступала, но ныла у нас в костях, покоя не давала. Только самые толстокожие могли тут громко разговаривать, хохотать, словно ничего такого особенного вокруг не было.
Таким толстокожим казался наш военпред, то есть заказчик, майор Уханов. Правда, приходил он обычно не с утра, а после обеда, когда наша советская инженерная жизнь закрывала занавесом ту, другую, заоконную, монастырскую.
Шуры-муры, анекдоты, футбол-хоккей, мы храбрились, хорохорились, чтобы этот мрачный монастырь над кладбищем не задавил нас своей тяжестью.
Среди нашей узкой «элиты», образовавшейся еще в вузе и занесенной нашим диким государством сюда, ходили по рукам — тогда еще тайно — Ахматова, Пастернак. «Привлечь к себе любовь пространства...» Да-а, любовь этого пространства нам к себе не привлечь!
«Всей элитой — в монастырь!» — пошутил наш главный остряк, Сеня Гарин.
Читать дальше
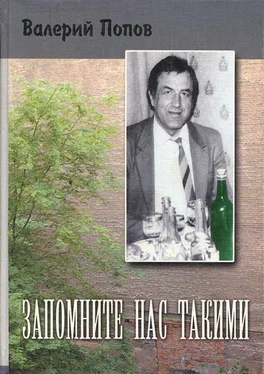

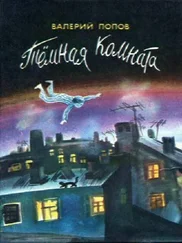
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
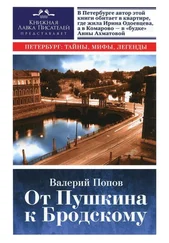
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)
