Может, лучше к маме под крыло? Но меня уже манил Подужасный. Кто тебе сказал, что новое будет сладким? Главное — чтоб оно было новым! А тебе жизнь готовит особое: это я понял очень рано, когда меня стукнуло сосулькой, в толпе одноклассников. За новой сосулькой и приехал!
Через московские толпы я пробился в общежитие... Да, общежитие соответствует! Подужасный — большое узкоглазое лицо на маленьком тельце — яростно кинулся на меня сразу: почему я здесь? Почему он здесь? Почему для него такая несправедливость? Потому что он из малой народности, можно издеваться? Зачем меня к нему поселили?
Смутная моя печаль сразу сникла от столь бешеной ярости.
— А что такое? — пробормотал я. — На одну букву мы!
— Буква твоя другая! — Сквозь острые желтые зубки он брызгал слюной. — Моя фамилия Бо-ду-жасны! Зачем меня ужасным назвали? Зачем с тобой поселили? Я главный человек у себя на родине!
— Ладно... ухожу!
— Откуда сам? — Он вдруг прицелился, прищурил и без того узкий глаз. «Оценил шкуру».
Что-то он разглядел во мне ценное, о чем я сам, видимо, не знал.
Мы сели рядом на тесно стоящие койки, и он с бешеным напором (а еще говорят — северные народности ослабели!) начал меня «забивать»: он самый талантливый в их национальном округе, самый известный — поэт, журналист, а вот теперь и кинематографист.
— Мой народ свое кино хочет! — гордо сказал он.
Я не возражал. Видно, моя уступчивость составила дивную пару с его хитростью: он разрешил мне остаться.
На первом экзамене — по литературе — он пугал экзаменатора, усталого интеллигента: «Нас народ обиды не прос-сяет!»
Его народ, я думаю, в это время мирно гонял оленей и о таком заступнике не подозревал.
Бодужасны творил чудеса, смело объединял Некрасова с Маяковским под фамилией Есенин. Экзаменатор лишь вздрагивал. Затем, вздохнув, поставил пятерку.
— Национальные кадры нам очень нужны! — сказал он мне, когда Бодужасны вышел.
Поставить мне меньше было невозможно, поскольку я знал, что «Войну и мир» и «Воскресение» написал один и тот же автор.
Моей пятеркой Бодужасны был взбешен: нас сравняли! Его, самого талантливого, и меня, рядового! Он, видимо, собирался быть первым не только в своем улусе, но — везде!
К сожалению, меня недостаточно это тогда испугало — еще можно было бежать. Я еще не понял тогда, что он выбрал меня как «жертвенного оленя». Вернее, бояться-то я боялся, но думал, что вскоре мы расстанемся: ведь поступили мы на заочное отделение. Недооценил. Как будет меня «свежевать», Бодужасны уже знал точно.
После торжественного зачисления и последовавшей за этим дикой пьянки (почему-то в тот год в сценаристы набрали в основном отсидевших уголовников, ценя, видимо, их знание жизни) и после общего бурного прощания я сразу же обнаружил себя падающим с верхней полки в резко тормозящем вагоне... Приехали?
Я грохнулся на колени, зажмурился, потом открыл глаза — и увидел прямо перед моим носом сияющее, как масляный блин, лицо Бодужасны. Глазки были закрыты, но реснички вздрагивали. Не спит? А я, надеюсь, — сплю? С ужасом, удерживая пьяную тошноту, я глядел с близкого расстояния на него... Нет! Реальность! Но — какая? Я, по пьянке, еду с Бодужасны к нему на Север? Тошнота подступала неумолимо. Нет, по охватившему меня отчаянию я все понял: иногда эмоции опережают мысли... Не я к нему еду! Это было бы сладкой сказкой!.. Он едет ко мне. И, видимо, знает зачем. Хотя мне этого понять не дано. Но ему, конечно, видней, хоть глазки его и закрыты... Пускай поспит! Еще успею узнать страшную правду.
— А рази я не сказал? — наконец, проснувшись, сообщил он. — Мы с тобой сенарий будем писать, о дестве!
— Ясное дело. О твоем? — проговорил я с ненавистью.
— Есесвена! — кротко улыбнулся он. — Мой народ хочет!
Мой народ тоже хочет, но, ясно, — после его народа!
Когда мы вышли из автобуса на моем углу, Бодужасны, оказавшийся еще меньше ростом, чем мне раньше казалось, восхищенно задирал свою мощную черепушку на хилом тельце, цокал языком, щурился... всячески изображал восторг дикого человека, впервые увидевшего такой «большой чум». «Опять хитрит!» — уже с отчаянием понял я. Видимо, хочет своим чистым, восторженным отношением расплатиться за хлеб и воду? Так оно и случилось.
Да, мой порыв к высокому искусству закончился неблестяще...
На оставшиеся три дня отпуска я сбежал к теще, оставив моего гостя хозяйничать. И когда вернулся, чуть не вылетел из моей квартиры, как пробка... Да. Нахозяйничал!
Читать дальше
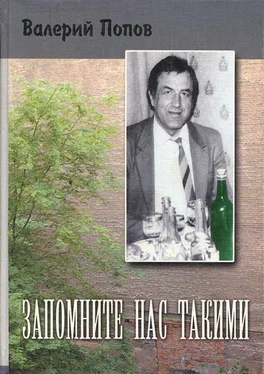

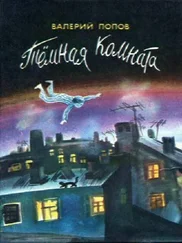
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
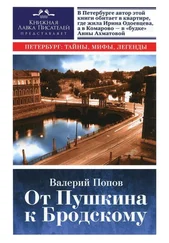
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)
