— Да-а... — произнес он. — Теперь я уже всё по-новому понимаю.
Это радует, безусловно. Но не означает, наверное, что надо лампы портить — причем собственного изготовления! Я пытался скрепкой прицепить лист на место... отваливается. A-а! Пускай! Мне-то какое дело? Тем более — он вдруг забыл про меня, но зато стал задумчиво и сосредоточенно раскачиваться на стуле. Сейчас встанет и куда-то пойдет, ни на что не взирая.
— Отец!
С отрешенной и даже блаженной улыбкой раскачивается — мысли о предстоящем загадочном маршруте затмевают всё!
— Отец!
На этот раз услышал меня и даже посмотрел с интересом — но интерес этот, как выяснилось, относился не ко мне.
— Ты мне вот что скажи, — ласково взял меня за локоть, улыбнулся прелестной своей, как бы виноватой улыбкой. — Ты видел колья мои? — глядел на меня прям-таки страстно! В прошлом году навыдергал кольев из ограды заброшенного детсада и вокруг чахлых своих сосенок навтыкал. Сосенок не видел никто, но колья все увидели и с вопросами кинулись ко мне: «Что это?» — «А то... чтобы вы здесь не ходили!» Примерно так приходилось отвечать. Поскольку сосенок никто не видел, да и увидеть их трудно было, обиделись все. Теперь сожгли его колья, видимо. Но не со зла, я думаю, — для тепла. Как бы ему объяснить всё поделикатней?
— Отец!.. Ты, наверное, думаешь, что ты один здесь живешь. Но ты ведь не один здесь живешь! Понял? У людей тут свои дела!
Обиженное сопение в ответ. То есть получается, что я в равнодушии к людям обвиняю его... по советским меркам — это кошмар!.. Но «равнодушие» — это еще сказано мягко!
— Учитывай людей! Всё-таки эти колья твои... никого не радуют!
Протяжно зевнул в ответ и демонстративно отвернулся! Вот так! «Еще на всякую ерундистику время терять!» Но тут уже я завелся.
— Отец! Скажи... ты вот знаешь кого по имени, кто тут рядом с нами живет? Или тебе это глубоко неинтересно?
Зевок. И взгляд вдаль, с надеждой: может, кто поинтереснее подойдет?
— Ну что ты за человек! — я воскликнул.
— Ну... что я за человек? — он поднял наконец-то глаза, улыбнулся прелестной своей улыбкой... задело чуток?
— Сказать?
В этот день отчаяния — или, может, усталости — не сдерживаться, наконец дать себе волю и сказать? Что это даст? Мне — и ему? Поздновато уже его воспитывать. Только расстрою. А впрочем — пусть расширит свой кругозор. Говорит же, что всегда надо учиться, и чем шире круг света, тем длиннее граница с тьмой. И что знаний не бывает бесполезных. Тогда — прими!
— Вот ты десять уже лет живешь у меня...
Кивнул. Правда, неохотно. Отрицать всё пока невозможно, но он этого момента дождется, и — в спор! За что, про что — не имеет значения: «Комар живет, пока поет!»
— И за десять лет... ну, скажем, за восемь... тебе даже в голову ни разу не пришло... позвонить моей матери — твоей бывшей, кстати, жене, с которой ты неплохо жил четверть века, вырастил, скажем, не худых детей... Ноль! Ни разу даже не спросил ее номер... если забыл.
Долгое молчание... Попал? А не слишком ли? Нет! Снова вдруг зевота его одолела его.
— Да тебе всегда и на нас-то наплевать было, твоих детей! Ты страстно — вот то действительно была страсть! — предлагал то в Суйду, то в Немчиновку нам переехать, где тебя-то ждали опытные поля, а нас что там ждало?
Тишина. Потом он, не в силах больше сдерживаться и внимание изображать, жадный взгляд на бумаги кинул: когда наконец-то поработать дадут?
...Молодец, батя! Силен! Сокрушить его трудно. Помню, как сестра второй его жены, Елизаветы Александровны, долго с умилением разглядывала нас. Я еще мучился, ждал: что-нибудь сладкое скажет!.. А она вдруг произнесла: «Да-а-а! Корень-то покрепче!» Удар! Нокаут! «Корень-то покрепче!» И счас еще силен! Только интересным чем-то можно его зацепить, а так — незыблем. Но в том, что по-настоящему ему интересно, я не секу! Один лишь раз, когда его вроде пробило, он произнес взволнованно: «Да-а-а... жаль, что ты не унаследовал мое дело!» Я, тоже растроганный, кивнул. «Писали бы вместе!» — уже вполне по-деловому добавил он. Тут я сразу протрезвился. «Твое, разумеется», — уточнил я. Он взгляд изумленный кинул: «Ну а чье же еще?»
К чужому был туг на ухо — слышал только свое. Мой день рождения — никогда не вспоминал. Не знал даже, когда и где умер его отец. И в последнее время с одинаковой яростью две взаимоисключающие версии защищал: то утверждал, что умер тот в лагере, в тридцать восьмом, то говорил, что у старшего сына Николая в Алма-Ате, уже вышедши. Помнил только, когда вывел свои сорта. Да и то приблизительно! К себе, надо отметить ради справедливости, так же суров... Помню, как я был потрясен, когда неструганый топчан увидел, на котором он спал, из нашей ленинградской квартирки уехав. Но им это не принималось к обсуждению, и даже к рассмотрению: спал. И полшестого вставал и в морозной мгле шел к конторе, на «наряды», где распределяли лошадей и технику для работ. Бывал с ним...
Читать дальше
![Валерий Попов Плясать до смерти [Роман, повесть] обложка книги](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-cover.webp)
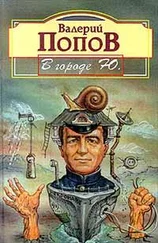



![Валерий Попов - Все мы не красавцы [Повесть и рассказы]](/books/414372/valerij-popov-vse-my-ne-krasavcy-povest-i-rasska-thumb.webp)
![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)
![Валерий Попов - Комар живет, пока поет [Повести]](/books/414375/valerij-popov-komar-zhivet-poka-poet-povesti-thumb.webp)
![Валерий Попов - Евангелие от Магдалины [Романы]](/books/414379/valerij-popov-evangelie-ot-magdaliny-romany-thumb.webp)
![Валерий Попов - Грибники ходят с ножами [Повесть и рассказы]](/books/414382/valerij-popov-gribniki-hodyat-s-nozhami-povest-i-r-thumb.webp)
![Валерий Попов - Новая Шехерезада [Повесть и рассказы]](/books/414385/valerij-popov-novaya-sheherezada-povest-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Две поездки в Москву [Повести и рассказы]](/books/414387/valerij-popov-dve-poezdki-v-moskvu-povesti-i-rass-thumb.webp)
![Валерий Попов - Жизнь удалась [Повесть и рассказы]](/books/414389/valerij-popov-zhizn-udalas-povest-i-rasskazy-thumb.webp)