Услышав хозяина, из-под вагончика вылез Дозор, потянулся, звучно зевнул. И тяжкое отступило.
— Молодец, Дозор, — похвалил он собаку, погладив ее.
Тяжкое отступило. Осталась лишь ночь. И густая, вязкая, словно настой, тишина, потому что вокруг, на десятки верст — безлюдье, дикое поле.
Рядом, за речкой, еще недавно жил Аникей; его подворье в ночи вздымалось светлым куполом огней электрических. А ранним утром доносился оттуда голос трактора. Это была поддержка.
Теперь Аникея нет. И подворья нет. Сомкнулись над хутором тишина и тьма. Словно на хуторском же кладбище, которое рядом и которое ждет своих последних, едва живых: деда Атамана, да деда Фатея, да трех старух. И о какой детворе тут речь… Протяжные глухие стоны донеслись издалека, с холмов. Звучали они в ночи жутковато. Это был брачный зов лося-самца. Но слышался он вовсе не призывно, а печально и устало, потому что всех лосей в Задонье перестреляли, как впрочем, и кабанов, косуль. И не подругу-лосихукоторый уже день призывал одинокий зверь, но гибель свою. Услышат и убьют. Те же военные да милицейские охотники, которые приезжают к Павлу, на его базу. Она недалеко, эта база: на устье речки, возле самого Дона. Пока там лишь невеликая плавучая пристань, жилые вагончики, двое егерей ли, сторожей, которые меняют друг друга. Обычно там тихо, как и везде в Задонье.
А нынче и вовсе — осенняя глухая хмарь. Может, оттого и почудилось страшное. Все же еще не привык. Всего лишь весна да лето. Да еще прошлая осень, когда у Аникея работал.
Но прошлая осень была иной: с утра съездил в город, вернулся и свободен. Шиповник собирай, грибы — вольная воля. А нынче — не до грибов.
Ненастная ночь скорого света не обещала, но, отмечая положенный срок, заклекотал, прокукарекал старый петух. Вдогон ему, вразнобой, заголосили петушки молодые. Начинался день новый с обычным его обиходом, в котором привычные утренние, а потом дневные заботы: уходила на пастьбу скотина, просторным веером рассыпались по усадьбе куры; неторопливо, немалым табором тянулись на прибрежный луг тяжелые индюки.Там они все лето сытно кормились летучей живностью, а потом отдыхали на берегу, вкамышовой затиши.
В свою пору прибыл с хутора работник Мышкин. Еще по лету обзавелся он стареньким мотоциклом с коляской, в которой нынче привез жену, и впрямь заметно пузатенькую.
— Пускай она чего-нибудь сварит, — объяснил Мышкин. — Не всухомятку же … Анам надо закончить. Пока дождя нет.
Какой уже день готовили к зиме коровники, птичники, укрепляя да утепляя окна, ворота, двери; а кое-где стены и кровлю — соломенными тюками да камышовыми матами.
Обедом мужиков кормила новая хозяйка. Ели, похваливая; молодухасмущалась. Ходила она, словно утица, вперевалочку, осторожно нося свое богатство.
— Когда? — о понятномспросил Иван.
— В Новый год обещают, — ответил Мышкин, смущаясь, но с довольной улыбкой.
— Вот и хорошо… — сказал Иван.
В самом деле, все было хорошо: обед, молодая женщина на сносях и будущий папа, который был уже вовсе не тот, каким помнился по первым встречам у Аникея. Там, во тьме коровника, копошился невидный паренек ли, мужичок с замершим личиком, бессловесный, покорный, словом, безымянная сирота по прозвищу Мышкин.
Нынче — совсем иное. А теперь даже папа.
Отобедав, Иван сказал:
— Пойду подменю Алексея. Вы его накормите. И с собой пусть возьмет еды. А потом… — Он засмеялся. — Потом сам гляди, папа Коля…
Ответом ему были счастливые лица.
К обеду скотина подходила на водопой к речке, в урочище Перекаты.
Там был пологий берег, прогалы в камышах, невеликий лесок: от воды — тополевый, повыше — вязовый и даже дубовый.
После неторопливого долгого водопоя скотина отдыхала на привычном, обжитом тырле. В эту пору за нею можно и особо не глядеть. Лишь козы — вечная суета — бегут, шарахаются туда да сюда. Поэтому решили избыть их.
В мире — ветер. Но здесь, в низине, у речки, он шелестит далеко в вершинах тополей-осокарей. Белокорых, уже облетающих, с просторным светлым подножием палого листа.
От водыотступив подалее, роняют лист дубняки. Шуршит и падает светлый и темный янтарь, оголяя чернуюпрожиль ветвей и веток. Непролазные терновые заросли в синем уборе мягких поспевших ягод. Рядом — кусты шиповника, объеденные коровами; скотина охотно и ловко шершавым языком ли, зубами обдирает ягоды с колючих ветвей. А вот терн коровы не трогают, не любят. Хотя он вполне едовый, не больно кислый, и если не лениться, то можно сыскатьнынче одичавший, но крупный казачий «калеградский» терн, который не уступит иной сливе. Прежде на хуторах его мочили в кадушках и лакомились всю зиму, особенно детвора.
Читать дальше


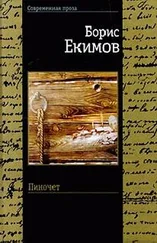

![Борис Екимов - Житейские истории [сборник]](/books/413591/boris-ekimov-zhitejskie-istorii-sbornik-thumb.webp)







