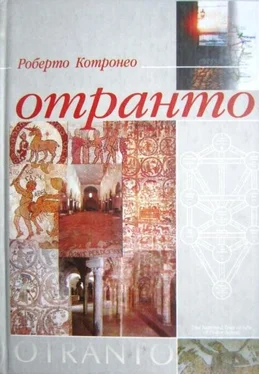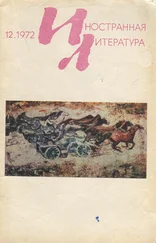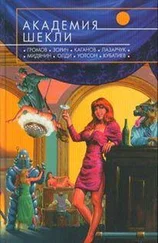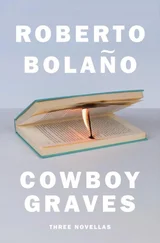Я бежала по направлению к Школе, а в голове вертелась мысль: эти всадники, эта «шайка», как назвал их мой священник, были без голов, как мученики Отранто. Тогда я еще не знала, что Эллекин и король Артур — одно и то же лицо: тот, кто осуществляет связь между миром реальным и миром потусторонним. И Эллекина называют еще Эрлекинус или Арлекин, персонаж в разноцветной маске. Отец как-то раз нарисовал мне Арлекина на манер Шагаловского скрипача. Эта картина висела у нас в прихожей: она и осталась последним воспоминанием о доме, из которого я уезжала навсегда.
Я знаю, она уплыла с рыбаком в южном направлении. Знаю, что перед этим она зашла в церковь, словно что-то искала. Каждый раз, когда она проходила мимо меня, мне хотелось, чтобы мир замер. И он замирал. Теперь осталось ждать недолго. Она спросит меня о многом, не подозревая, что ответить на все вопросы может только она одна.
Я ничего больше не узнал ни о сыне, исчезнувшем где-то за Гранадой, ни о других пленниках. Закат разоренного и покинутого турками города растянулся на века.
Теперь она избавилась от страха, не желает ничего видеть, и отдалась на волю разума, который все маскирует и все обращает в фантазии. Она думает избежать своей судьбы. Но phantasia происходит от phainein, что означает показывать. Бежать не удастся, ей придется снова пройти через все, что она знала когда-то.
Ей покажут ее судьбу, ей скажут, почему мы все так ждали ее, чужестранку. Только так священный холм Минервы очистится от крови.
Я видела турка Ахмеда, и старика, и светловолосого парня. А в Долине Памяти ждала беспокойная тень. Все это означает, что время на исходе.
Я страдаю «перемежающейся памятью». Теперь я это знаю, и многое начинаю понимать. Где же мое время, то самое, что искривляется за пределами видимого с террасы неба, а потом замыкается? Почему давно не видно Ахмеда? И куда делся мой доктор, напуганный не меньше меня и так и отважившийся со мной встретиться? И где старик, у которого не хватило духа рассказать мне правду до конца: отчего его предок, заплатив за свое спасение, не смог заплатить и за сына? Не смог или не захотел? И сын оказался среди восьмисот блаженных мучеников, что вовсе не сделало меньше горе старика из Галатины.
Я страдаю «перемежающейся памятью». Не могу вспомнить, сколько комнат было в нашем доме. Я все время ошибаюсь на одну комнату и начинаю считать снова. И, пока считаю, медленно, как в кино, прохожу насквозь все комнаты и коридор: пятая, шестая, седьмая рядом с кухней, потом студия отца и комнатка, из которой по лестнице из четырех высоких ступенек можно спуститься во двор. У последней ступеньки был острый обломанный угол. Когда мне случается, засыпая, потрогать правую руку и нащупать слегка выступающий шрам, мне снится, как отец несет меня на руках в больницу. А я напугана больше тем, что не послушалась, чем болью: ведь отец не велел мне прыгать возле лестницы. Рана причинила гораздо меньше страданий, чем суровый отцовский взгляд. Тогда, наверное, я его сильно разочаровала. Но это был первый и последний раз, больше такого не случалось. Интересно, какой рисунок, в каких тонах он выбрал бы, чтобы изобразить эту историю? Теперь мне почему-то кажется, что он не стал бы ее рисовать. Когда я объявила ему, что собираюсь уехать, и может быть, навсегда, он покорно меня отпустил, продолжая грезить о свете, которого никогда не видел, о лицах, которые не мог себе представить, и о мирах, которые навсегда остались для него чужими. Его страсть к странной женщине давно угасла, и я понимала, что он смотрит на мир, не обращая внимания ни на какой здравый смысл. Отсюда и его привычка все переводить на язык переплетения ярких цветов и воспринимать жизнь через эффект перспективы, то есть через обман зрения. Он не нарисовал тогда мою окровавленную руку, не сумел переосмыслить и преодолеть в зримых образах боль и страх поранившегося ребенка. Стоило самой незначительной детали жизни застать его врасплох, он оказывался не способен поместить эту деталь на сцену своих холстов. Так было с матерью, ни одного портрета которой он не нарисовал, так было с маяком в Нордвике и с замком Отранто из нашего путеводителя. Интересно, как бы он отреагировал на здешний свет, если бы добрался до этих краев? Он бы, наверное, перестал рисовать и ничего бы не смог больше выдумать. Он бы растворился, потерялся в море света. Он сумел посвятить меня в мир красок, но я понимала, что за всем его вниманием кроется одно: отправить меня из дома, и как можно скорее. Мне сказали, что перед смертью он продал все свои картины: и те, что имел, и те, что написал после моего отъезда. Он хорошо знал, что я не вернусь. И меня не покидает ощущение, что на последних его картинах мелькало и мое лицо, мой образ, который он так хорошо знал. Может, на них попала и девочка с порезанной рукой, испуганная отцовским выговором. Интересно, что все мужчины, любившие меня, спрашивали, откуда этот шрам. И никому из них было невдомек, что с этой пустяковой детали прослеживается маленькая трещина, точка кризиса, который привел меня сюда, в одну из болевых точек мироздания. И каждый раз ничего не значащий вопрос погружал меня в мысли о наших комнатах, о красках, о свете и о смирении. Я без страха вышла на истинный свет только после того, как сделала выбор и прошла часть пути вспять, и незаметный шрам стал значить для меня не больше, чем для остальных. И в тот день, когда Ахмед, лаская губами мою руку, остановился в нерешительности, я поняла, что он не спросит, потому что ему незачем задавать мне вопросы. Он и вправду ни о чем не спросил. Я скажу, конечно, что это случайность, что его это не волновало, но втайне буду уверена, что он смог понять.
Читать дальше