Поселок еще спал — шел третий день праздника, алел лозунг на серой заводской стене, у остановки автобуса одиноко торчал какой-то старикан в кепке. Он был трезв и зол: автобус по случаю майских дней отменили: об этом, сказал он Федору, на бумажке написано, на столбе, а кто ее, эту бумажку, заметит, махонькую такую? и кто им право дал — отменять? и писать надо на таких деятелей в газету, а не то и повыше, мать их так и эдак! Федор слушал и удивлялся, как можно так переживать такую мелочишку, а потом спросил, зачем же здесь стоять, если автобусы не ходят?
— Зачем? А может, и придет. Не первый раз так: написано не придет, а он и заявляется. Или так: ничего не написано, не отменили, а он не приходит. Вот я и жду, — объяснял старикан. — Куда путь держите?
— В военкомат, в Рождествено.
— Восемнадцать километров. Да по грязи. Вот и жди автобуса.
Солнце уже доставало через крыши и сюда, чуть пригревало щеку, в палисаднике напротив остановки возились, чирикали птахи, где-то с задов взмыкивали коровы, щелкнул бич, порозовели макушки берез за домом с синими наличниками.
— Раньше в Рождествено всегда пешком, — сказал Федор задумчиво. — Автобусы тогда не ходили. — Он говорил, а сам себя не слышал: Анка с карточки представилась ему, незнакомая, опухшая, с выпуклыми скучными глазами. Нет, это не она.
— Раньше! — сказал старик и сплюнул на столб. — Мало ли чего было. А теперь обязаны…
Федор его не слушал: какая-то баба пожилая шла на них из глубины серого проулка, медленно, устало, на плече наперевес несла бидоны с молоком, голова замотана шалью, чернеет дыра рта, глаза смотрят мимо, безучастно. Может, это Анка, Анна?
— Ну, пойду я, — торопливо сказал Федор, — пойдет автобус — подсадит, прощай, дедушка!
— Постой, — неужто пешим пойдешь? Далеко, брось! — говорил старик, но Федор уже ходко шагал прочь по асфальту, а потом на отворотке — по грунтовой разъезженной тракторами дороге. Когда миновал последние спящие дома и увидел взбороненное поле, а справа — синь, истончавшуюся в далях — леса и леса, то словно слезло что-то с плеч, и ноги пошли еще шибче.
В Рождествено вела дорога по нежилым лесным местам, только одна деревня — Хорошово — попадалась на пути. Федор пошел потише — стало припекать спину; по мягкой пашне бродили грачи, земляной мягкий дух охватывал все тело, на вербах белели зайчики-пухлячки, в канаве заиленной хоры лягушачьи смолкали от шагов и опять зачинались сзади. А справа все ближе к дороге подходили леса, еловые, с березками на опушке, розовеющие от восхода. Леса эти шли на много верст, до самых Оршинских Мхов, до озерного края. Еще пацаном Федор ходил туда с отцом на косачиные тока, а осенью — за клюквой раз ходил с матерью и Анкой, и все это вышло и встало живым, смолистым, утренним, так, будто воскресло навсегда в глазах, в крови и дыхании. Он забыл все мысли, всех, кто был вчера и позавчера, потому что шел и видел не эту дорогу, а то первое лесное озеро, на которое вышел с отцом.
Было оно километрах в десяти от Бортникова — хутора лесного, — синее-синее, но черное под берегом, и все в рыжих торфяниках. Шли они туда мхами, болотами, меж редких худосочных сосенок. Ронгва — ледяная корка в болотах — еще не растаяла, держала, и шли они с отцом над топью твердо, легко, давили мороженую клюкву по кочкам, а на перекуре — собирали ее и сосали вместе с пресным ледком — жажду утоляли. Спали в шалаше, на хвое, сухой утренник щипал губы, утки свистели по звездам над самым лесом. Вот бы куда забраться и заснуть надолго, на тыщу лет… А на другой день нежданно из черноты еловой вышли на синий свет озера; недвижная вода купала высокое облако, опрокинутые ели стерегли тайную глубину, щука ударила в заливе, и круги побежали до самого зенита, где плавало солнечное пятно.
Тешелево озеро — вот как оно называлось. Первое, а за ним много других, безымянных.
Деревня Хорошово и до войны была небольшой, а сейчас изб восемь осталось. Стояла она на хорошем месте — на бугре над ручьем, близко к огородам подступал густой сосняк. На задах у одного дома две девчонки сажали картошку, Федор спросил, где можно молочком разжиться, и старшая сказала:
— В крайней избе спросите, на выходе, справа, а мы не держим.
Он еще раз глянул на них, хотел попросить хлеба, но не стал.
Крайняя избушка — невеликая, ветхая, но вся чистенькая какая-то, стояла на отшибе. На крыльцо вышла бабушка в чистом платке, такая же маленькая и чистенькая, загорелая, глазки-василечки — живые, умные. Она всмотрелась из-под руки, ответила:
Читать дальше
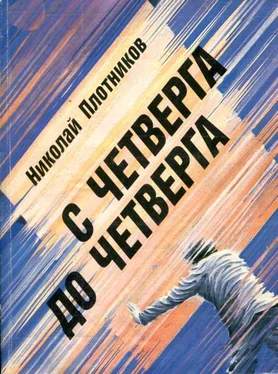
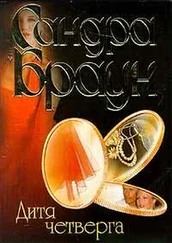



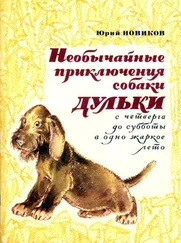



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


