В золе дотлевал сучок, словно свечечка, трава заиндевела у корней огромной ели, звезды колыхались вверху от теплого дыхания, а солдатские глаза все смотрели туда — в зарево древнего входа, и превращались в детские, отражая медленное приближение чуда.
Напев все еще звучал в нем, когда он проснулся и увидел затоптанный пол, стружки, ножку стола и пустую бутылку из-под самогона.
* * *
Ночной теплый дождичек промыл голубизну, зазеленели дали, в огороде парило над рыхлым черноземом вскопанных грядок.
Федор вышел во двор, потянулся, вдохнул поглубже, и вся муть выветрилась, канула без остатка. Медленно обошел он двор с высокой поленницей и кирпичной дорожкой к хлеву, постоял у кадки с водой, на задах долго смотрел на пойменную низину с баньками над урезом воды. У Михаила банька была с трубой, новая, топилась по-белому. Вот бы попариться! Но сегодня всем не до этого — праздник. Он пошел в дом: завтракать позвали. Михаила не было, жена его, Анисья Павловна — толстая баба с плоскими волосами, — налила молока, наложила горячей картошки с салом. Она потчевала, с гордостью скромно говорила:
— Медку отведайте, взяток был хороший летось, — и наблюдала исподтишка, как он ест. Васька — пацан, племянник, открыто изучал Федора, набив рот, торопясь куда-то, слушал, что он скажет. Но Федор почти не говорил: крепкое хозяйство брата (холодильник даже есть!), опрятная горница с телевизором, вопросы-намеки Анисьи Павловны — все было точно на том берегу. Что-то бродило в нем где-то глубоко, но сильно, словами этого не скажешь…
Играло без передыху радио, марши и песни, и речи, и опять марши, и солнце сквозило сквозь тюлевые занавески, и по грязной дороге мимо окон проходили нарядные бабы и уже выпившие (но на прямых ногах), побритые мужики. Было 2 Мая, гуляла где-то гармонь, мотоцикл красный с ревом промчался, чуть не задев палисадника. Праздник.
Михаил еще затемно уехал на моторке в Конаково, на другую сторону Волги, перед отъездом долго шептал жене в ухо: «Ты тут приглядывай — он в «психушке» шестнадцать лет просидел, документ, может, и настоящий, а может, и липовый, я с Яшкой потолкую и обратно — он головастый, документ это что — а может, он в плену был? …да нам какое дело… у Зойки жить не желает, да и ей своих хватает, не говорит толком, куда пойдет, ты Зойку упреди — може, она придумает чего… Но и я его не брошу, нет, это ты заруби, смотри, не проговорись ему, ну, я поехал!..
Подоив корову, Анисья Павловна сходила к Зойке, но та, услышав: «В психушке» — затрясла головой, испугалась. «Куда он мне, где с ним жить-то? Да я и не знаю… Пускай к матери сходит на завод. Ладно, зайду, да пусть он у вас побудет пока, праздник: мужик-то мой с утра уже набрался… ладно, поглядим…»
Федор ничего этого не знал. Он сидел в горнице, разглядывал фарфоровых котят на комоде, пикейное покрывало, никелированные шары городской кровати, плакат вместо божницы в углу: красный рабочий жмет руку красному негру. Да, на избу и не похоже. Федор робел братниной супруги, когда уже за полдни захотелось есть, ничего не попросил — ждал, что позовут обедать, но Анисья Павловна чего-то пожевала тишком на кухне и на стол не стала собирать. В кухню часто кто-то входил, заглядывал в дверь горницы на Федора, о чем-то шептались за тесовой перегородкой бабы. Сначала Федор их не замечал, а потом почуял, что это про него: заглядывали все старухи, вдовы, наверное, горестно кивали, одна поздоровалась, вглядываясь странно, но тоже не взошла. Он уловил, как она сказала хозяйке: «До чего на Лексея-то похож!» — и стало ему неспокойно, неловко. Он взял кепку и вышел на улицу.
Высокое майское солнце сушило грязь, изредка забегало за облачко.
У прогона к Волге стоял новый магазин — сельпо, за ним — тара, ящики пустые, бочки и трактор с прицепом. На куче битого стекла вспыхивали искорки, две куры рылись около штабеля торфяных брикетов. За сельпо на зеленеющем бугре кирпичная церква с лозунгом над дверью — клуб. На порожке сидели молодые ребята, один растягивал гармошку, перебирал одно и то же, смеялись две бабы в свежих косынках. Они стояли посреди дороги, одна оглянулась на Федора, но он не заметил: смотрел на церкву-клуб, куда ходил он с мамкой еще малым пацаном на заутреню, а потом не ходил. Ее голубой куполок первым всплывал над осинником, когда возвращался он из школы из Новоселова. Сейчас по первой прозелени вилась к клубу серая тропка, а по тропке шла девчонка, и у Федора екнуло в груди: «Анка!» Шла она, легкая, пряменькая, отмахивая шаг левой рукой, покачивая бедрами под тонким ситцем. Он ускорил шаг, но сдержался, закусив губу, краснея. «Анка, Анка!» Из-под тяжелых век смотрят ее серые глаза, чуть светятся чистые зубы в полуоткрытых губах, пушатся волосы на висках, и Федор останавливается, ожидая сам не зная чего.
Читать дальше
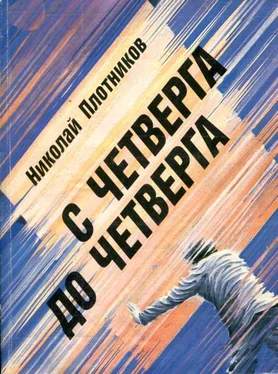
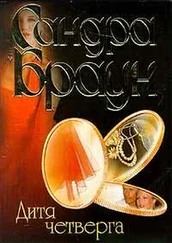



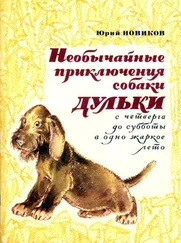



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


