Выстрелы, рев, он отшатнулся — из-за угла вывернулся красный мотоцикл, прыгая на буграх, опахнул пылью, лихо тормознул у сельпо. Пацан лет пятнадцати сдвинул очки на лоб, что-то крикнул Федору, толкнул зеленую дверь в магазин.
Федор еще постоял немного — никак не стихало сердце, дрожь в пальцах. «Эк меня разбило! Да, живут: машина-то новенькая. И такому пацану такую машину?» Он вспомнил, как старый велосипед — гордость Валерки Зыкина — они выпрашивали в очередь покататься. Но сейчас не смог бы он на этой машине ездить — голова кружится…
По случаю праздника в магазине толкались почти одни мужики, только две бабки жались к стенке. Брали водку, консервы, хлеб не завезли еще, колбасы не было.
Федор встал в очередь. Какой-то дядька в плаще нараспашку позвал:
— Зой! Килек еще баночку! — и Федор вскинул глаза. За прилавком стояла рослая белобрысая молодуха в синем халате.
— Рупь двадцать! — сказала она, и по нутру ударил ее сипловатый голос, ядовито-розовый воротник кофточки; на толстом лице царапинка возле ноздри, светлые глаза смотрят весело, жестко. «Нет, не она…» Брови подбриты, из-под беретки торчат мелкие кудряшки.
— Еще одну, Зоечка!
— Куда лезешь — все за этим стоим!
«…Может, твоя, а может, и не твоя», — с усмешечкой говорил Михаил. «…Нет, не моя, — нехотя думалось Федору, — что-то устал я с утра, а может, и моя, кто там разберет, что с того, что не разберешь, не поймешь, не узнаешь…»
В углу на полу спал сидя пьяный, белели позвонки на угнутой шее, все переступали через его вытянутые ноги, все были возбужденно-озабоченные, красные, смелые. И никто ни о чем не догадывался. Но где-то сзади зашептались, зашевелились по-иному, старуха кивала на кого-то, Федор покосился и понял — на него. В магазине стихал гомон. Зойка щелкала на счетах, очередь перестраивалась, расступалась, и Федор оказался у прилавка с нею один на один. Вскинулись светлые глаза, равнодушно отметили: «Чужой», продолжая щелкать, спросила:
— Вам что?
Он хотел бежать, но сзади дышали в затылок, нажимали, неистовым любопытством светились глаза у бабки, которая его узнала.
— Консервов две банки, хлеба, конфет полкило, — сказал он — не он, а язык сам собой, а он был как бы и здесь и уже не здесь; горели кончики ушей, переминались ноги.
— Хлеба нет. — Она выкинула сдачу. — Ну, чего встали, тебе чего, дядя Митя?
На воле он долго щурился на искристое заречье, курил, тихонько сдувались с папиросным дымком ненужные мысли. «После, после, — шептал он, успокаивая себя, — завтра, после…» Задами вдоль реки побрел домой, разглядывая баньки, вешала для сетей, лодки в затончике. На скамейке у их дома сидели три бабки, они закивали, поздоровались хором, и Федор поскорее вошел в дверь. Анисья Павловна сидела в чистой горнице, сложа руки под толстой грудью, кошка терлась о ее ногу, курлыкала, как мотор.
— В магазин ходили?
— Да…
— Зою-то видели? Как она — признала вас?
— Где ж ей меня признать…
— Да уж… Ну, посидите, коли так. Михайла-то нету все, черта, опять, видно, загулял.
Федор маялся в этой чистой горнице с навсегда замазанными окнами, разглядывал все бесцельно. В простенке в раме под одним стеклом висели фотокарточки, он подошел, замер: молоденький солдат в шинели смотрел в глаза, пилотка — чуть набок, лоб — гладкий, над губой — прыщик. И ухо торчит, а сапоги — великоваты. Это был он сам. Федька, на базаре в Сандомире. Рядом другие карточки: застолье, Михаил в новом пиджаке, одноглазый, дядя Митя, тетя Настя, мамка… А вот и еще она, но в гробу. (Он медленно отвел взгляд.) Плотный мужик, кучерявый, лобастый, а рядом какая-то женщина в шали, отекшая, скучная, взгляд равнодушный. Где он ее видал? Кто это? Тетка Лиза — теща — мать Анкина? Нет, не она.
— Кто это? — спросил он громко.
Анисья Павловна подошла, вгляделась.
— Это жена ваша. Бывшая. Анна. А это — евойный муж.
— Вот этот?
— Да. Анатолий. Позапрошлый год сымались — ездил тут один — сымал карточки за картошку…
Михаил приехал поздно вечером — лыка не вязал, как он еще лодку сам довел — непонятно было. Жена кормила его на кухне, зло стучала посудой, попрекала:
— Нажрался опять, кривой черт, чего ты не видел в этом Конакове, и этот сидит, к Зойке не идет, и она тоже глаз не кажет, чего мне с ним тут делать, а тебе и горя мало, черт!
— Ну, ну! — лениво отбивался Михаил. — Заладила сорока Якова, чего он тебе помешал? Проспимся — видать будет.
— Видать! Много ты видишь!
Федор все это из горницы слушал. Анисья Павловна вошла за чашками, сказала спокойно, вежливо:
Читать дальше
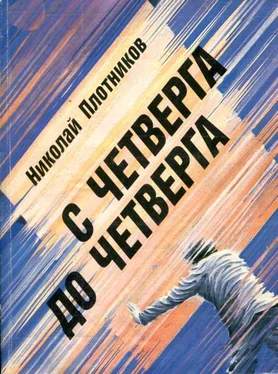
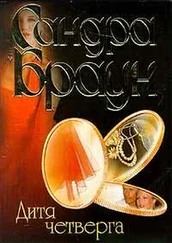



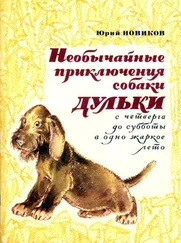



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


