И тогда щелкнуло в черепе, и затикали мысли, как часики. «Шестнадцать годов. Сорок четвертый… — Шестидесятый. Берлин взяли. Кто теперь где? Одни вернулись. А другие? Кто ж нет? Жизнь прошла целая. Нет их никого. И не будет. Кто и жив — под сорок им, — старики. А я?»
Под Ровно догонял он зимой свою часть — из медсанбата смылся, не долечив руку. Где на попутках, где — пехом, в ботиночках по скрипучему морозу. Чей-то полк в колонне по четыре шел через деревню, а он стоял у обочины и всматривался: не наш ли? Серый полк, обношенный, усталый — фронтовой. Безучастно, не в ногу шли немые безликие шеренги на пределе усталости. Несли зачехленные пулеметы, ПТР, а сзади за двуколками тянулись отставшие, один с палочкой — хромой, старики, какой-то парень с бинтами из-под шапки. К ним Федор и пристроился, шел молча верст десять, боялся спросить, какая часть, боялся отстать. С ними и переночевал в высоком овине, посреди которого развели костер, и даже супа горохового похлебал. Все они были из другой части, но и свои, «славяне», пехота. Наутро он от них ушел — сержанты стали выкликать отставших по фамилиям. А родную роту догнал он под Луцком случайно: узнал ездового и с ним подносчика — Кольку «Суп». Кольку ни с кем не спутать — такой тощий и сопливый. А Супом его прозвали, когда он весь в лапше в траншею скатился. Это еще где-то под Львовом было: полз он с термосом лапши, а фрицы достали очередью, и весь термос пробило. То-то было смеху!
Федор лежал и улыбался. Уже совсем рассвело, но электричество не гасили — на дворе было пасмурно, дождливо.
— Сегодня вам повязку будем снимать, — сказала сестра после завтрака.
* * *
Голова стриженая колола ладонь, а шрам был гладкий и чесался. Бугристый шрам, твердый. «Эк меня скребануло!» — сказал он с обидой.
— Ты-то жив, — сказал дядя Степа с укоризной, затянулся, затрещали искры.
— Ну и что. И жив и не жив. Отстал я, и не с вами, с ними… Ненужный я стал.
— Жив, а ноешь, — сказал старик сердито. — Жив! Понял?
— Да я ничего, понимаю, я так… — сказал Федор смущенно. — Скукота здесь, покурить не дают.
— На — покури!
Кто-то протянул кисет, и он тщательно свернул самокрутку, послюнил, пригладил, прикурил от «катюши». От первой затяжки закружило в голове, выжало слезы. «Первач!» Он увидел тлеющий костерок под елью, снизу подсвеченные скулы, ноздри, внимательные глаза в глубоких впадинах из-под надбровий следили, как он курит. Здесь были все, даже те, имен которых он уже не помнил, а ближе всех сидел старик Головин, дядя Степа, и молчал, но Федор чувствовал, что старик его понимает, что он все понимает, и ему становилось все спокойнее, яснее, хотя ничего старик и не говорил. Вопросы проклятые провалились, растаяли сами собой, резче, свежее стал запах хвои, дождя, самосада и волглых шинелей…
Они скребли с Петькой кашу из одной манерки, пшенку подгорелую с американской тушенкой, а потом пили чай, горячий, черный, и сахару было вволю. В кружке плавали хвоинки, он сдувал мусор и пил большими глотками, не вытирая испарины, блаженно щурился на угли костра. Это было в Карпатах.
* * *
Это было в Карпатах, это было вчера, а сегодня на обходе опять появился Аврам Герасимович, врач «по психам», и задавал хитрые вопросы, а потом сказал:
— Можете вставать осторожно, ходить по палате. Если голова не кружится.
— Не кружится… А в… оправляться можно ходить? Самому? А то…
— Не торопитесь. Вот в общую переведем, тогда пожалуйста. Затылок не болит?
Затылок не болел, но вот ноги стали как без костей, слабые, и он шел до окна, как по жердочке, рукой придерживался за стену. С высоты четвертого этажа раскрылась даль за больничным садиком, крыши окраины, тучи серо-лиловатые, трубы завода, голубые просветы. Дождь перестал, блестела пестрая листва, багряные подстриженные кусты вдоль песчаной дорожки. По дорожке гуляло несколько больных в пальто. Из-под пальто у всех одинаковые синие штаны пижамные. У одного была забинтована голова. Было пасмурно, но лимонные клены светились свежо, четко вырезались их листья на черных лужах. В форточку пахнуло лиственной горечью, мокрой землей, и Федор забыл все. Он стоял долго, раздувая ноздри, вглядываясь в каждую веточку. Деревня, Устье, избы, потемневший стог соломы, щепки на мураве у ворот, сети с прилипшей чешуей, лодка в затончике, зеленом от ряски, Волга, рыжие камыши, ледяной пар над темным заливом и посвист чирковой стайки, от которого дрогнуло в груди, и четкие силуэты уток — мельканье над самой водой, на просвете вечернем, все дальше, дальше с разворотом на плес, и вот уже пропало…
Читать дальше
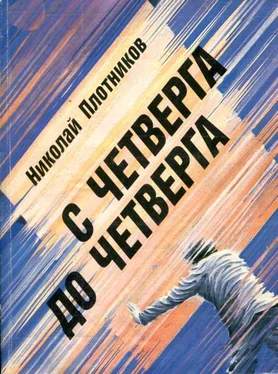
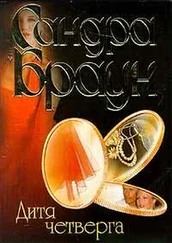



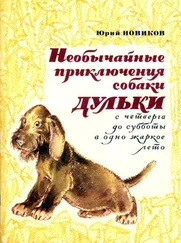



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


