В ноябре снега еще не было, а ночи стали черными, электрические окна больницы вызывающе сияли, и Федор никак не мог к этому привыкнуть — все хотелось их завесить. Ночь наступала под тихие разговоры. Вот и сегодня: Тракторист посапывал, спал, а Витька и Плешатый слушали рассказ Москвича про отпуск на Черном море. Федор слегка дивился его красивой там жизни с какой-то бабой, но не завидовал и слушал вполуха — он все представлял с тревогой, как окна их корпуса сияют там в осенней черноте на десяток верст, и ему становилось все беспокойней: ночную высоту сверлил знакомый унылый звук. Федор сел. Гул уже навис над крышей, и Федор сцепил пальцы, застыл, волосинки на затылке встопорщились от ожидания, и тут ударило что-то в пол и сорвалось:
— Ложись! — руки сами закрыли голову.
Когда смех приутих: он отнял руки от головы, начиная понимать, заливаясь мучительной краской.
— Вы что? — с тревогой спросил Москвич. Гул уходил за город, стирался, глох, а Федор все никак не мог справиться с прыгающими губами.
— Приснилось что-то? — спросил Плешатый.
— Задремал он, а я книжку уронил, — пояснил Витька. — Ложись, дядя Федя, все в норме!
Федор лег, натянул одеяло; все никак не успокаивалось, стукало в ребра сердце.
— Потравили, и хватит! — сердито сказал Плешатый и еще что-то вполголоса добавил Витьке. — Спи, Федор, я потушу. Он прошлепал к двери, выключил свет. Ночь чуть серела в высоких проемах, посапывали, подхрапывали соседи, а Федор лежал и думал. Самое удивительное было то, что они самолета, проревевшего над самым потолком, кажется, совсем и не слышали. Как глухие. Он долго так лежал, а потом встал и ощупью по стенке пошел в туалет. Голос Тракториста спросил:
— Это ты, Федор?
— Я…
— Закурить не будет?
— Не… Сам маюсь.
— Возьми у Москвича. Пить не дашь? Не зажигай только.
Федор на ощупь дал ему стакан, слушал, как крупно, жадно булькают глотки.
— Ух, хороша водица! Спасибо. Чего не спишь?
— Да так…
— Холодина в палате, топят еле-еле. Ты сам-то откуда?
— С Калининской.
— Тверичи, значит. А я — с Владимирской. В лесу жил, а потом курсы шоферов кончил и сюда подался, в совхоз. К городу поближе.
Окна мутно белели в полумгле, Федор подошел к окну, прижался лбом. Знакомой студеностью зимней веяло от окна, во мгле внизу белела крыша флигеля, и пустырь белел до самого осинника, за которым чуть зеленела полоса слюдяная. От свежего крепкого запаха заломило в переносице.
— Снег выпал! — сказал он радостно. — Рано, не сошел бы…
— Может, и постоит. Закурить бы! Возьми у Москвича в тумбочке.
— Так, не спросясь…
— Утром скажем. Возьми пару — и я потяну. До туалета меня проводишь. Одолеешь?
— А что? Давайте…
Тракторист обнял Федора за плечи, еле-еле, как по льду, зашаркал ногами к двери, налегая, обдувая дыханием. Был он жаркий, мясистый, грузный.
В туалете было совсем студено, воняло хлоркой, от первой затяжки поплыло в голове. Они курили истово, молча. Тракторист притушил сигарету о ноготь, спрятал в кармашек пижамы.
— Это завтра после завтрака… — Федор смотрел на его толстое неподвижное лицо. — Ты, правда, говорят, здесь с самой войны прокантовался? Двадцать лет?
— Да… — тихо ответил Федор.
— Неужто с самой войны? Ну и как?
Федор бросил окурок в унитаз, зашипело, погасло.
— Не помню я…
— Ну и дела… Говорят, сестра тебя выходила, Козлова.
— Говорят…
— Неужто не помнишь? Ее-то?
— Нет…
Федора трясло мелко, незаметно.
— Да ты не теряйся. Она баба серьезная. Заходила тут без тебя, спрашивала, мы все тебя хвалили. Ты теперь как, к ней? Когда выпишут.
— К ней? — Федор мучительно искал слова. — Домой, я домой поеду. У меня жена дома.
— Писала?
— Не… Я писал, да не дошло, видно.
— Да-а! Дела! Вон она что медицина делает. Пойдем спать — застудимся тут. Дай я за тебя подержусь. Потише, потише!
Уже в палате, повозившись на постели, Тракторист сказал:
— А у меня баба была, да сплыла. Верней я сам от нее сплыл… Дети-то есть?
— Не знаю…
— Ну, спим. Снег выпал. Спим, медведи!..
* * *
Пороша пала в ночи тайно, нежданно. Федька вышел на крыльцо, зажмурился, втянул носом — пробрало до слез. Тонко и бело засыпало раструшенную солому, поленницу, окаменевшую грязь. Отец ладил сбрую на пороге, перебирал-мял в сильных ладонях сыромятную шлею, щурился за ворота на побелевший выгон.
— За дровами съездим, сынок? — спросил, не оборачиваясь, и у Федьки застукало сердчишко.
Читать дальше
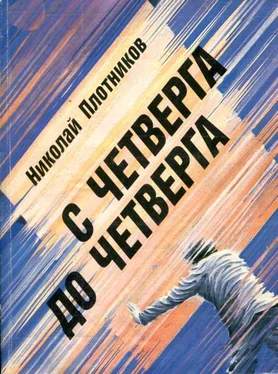
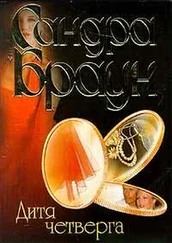



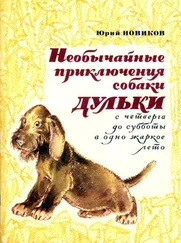



![Крис Райландер - Проклятие неудачного четверга [litres]](/books/393005/kris-rajlander-proklyatie-neudachnogo-chetverga-litr-thumb.webp)


