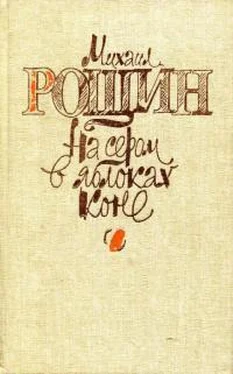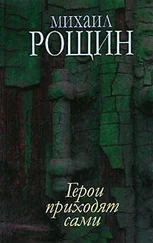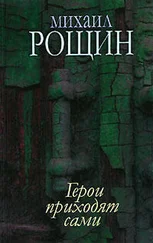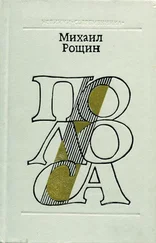Опять радиола играла те же пластинки, что и в клубе. Леру с Ларисой наперебой приглашали танцевать, и Чинцов, приглашая, расшаркивался и отставлял ножку, а после танца ручку целовал. Женщины шушукались, ревниво оглядывали их наряды, фигуры — особенно Леру. А когда она взглядывала в их сторону, деланно ласково улыбались. Соня не танцевала и прятала под стул ноги в черных чулках. К ней, как Лера заметила, женщины относились с особой предупредительностью. Прораб Митя без конца кричал «минуточку!», все замирали в тех позах, в каких заставал их крик Мити, ярко вспыхивала лампа, а Митя щелкал фотоаппаратом.
Лерино место оказалось между Тонгуровым и Ежаковым. Она чувствовала, что именно ее все молча выбрали королевой вечера, и следовало бы стряхнуть с себя давешнюю тоску, забыться, разойтись, показать этим толстухам «класс», но что-то ее не пускало, она уже взяла другой тон, на губы просилась усмешка. Она поняла вдруг, что вообще давно не веселилась так, как когда-то в институте, — не хохотала до упаду, не отплясывала целый вечер подряд, и внезапно увидела, что жила два года очень напряженной, трудной и серьезной жизнью, занятая одной работой, и что эта жизнь уже наложила на нее свой отпечаток. «Старая стала», — сказала она себе. Ежаков, добрый старик, все показывал ей сломанные и искривленные когда-то, в войну, два пальца на руке и говорил, что врачей он вообще не уважает, а хирургов уважает. Подвыпивший Тонгуров, обратившись к Лере с каким-то вопросом, как бы невзначай положил ей на ногу руку. Платье было обтянуто, и Лера почувствовала, какая осторожная и горячая у него ладонь. Она помедлила секунду, а потом подняла на Тонгурова глаза и поглядела, как на того парня в клубе. Тонгуров совсем спрятал свои глазки, прищурясь, и руку убрал.
Лариса сидела с Митей и Сашей. Саша подкладывала ей в тарелку еду, быстро, негромко говорила. Лариса пожала плечами и вздохнула: наверное, Саша тоже спрашивала о болезнях. Лицо у Ларисы, однако, было розовое и спокойное. Совсем трезвая Соня откуда-то с конца стола глядела на всех с доброй улыбкой. «Милые вы мои», — неожиданно подумала Лера. Ей захотелось поскорее уйти, остаться втроем, залезть с ногами на «Княгиню Ивановну». Пусть бы и Чагин пришел, с ним все-таки интересно. Лера теперь немного стыдилась за себя и девочек, что они нарядились и будто на что-то надеялись, чего-то хотели, идя на этот вечер, стыдно своего платья, своей прически.
Митя, взобравшись на стул, опять кричал «минуточку!», Чинцов в десятый раз острил: «Шпокойно, шнимаю, шпортил!» Лампа ярко вспыхнула, и в ее свете все лица показались Лере уродливыми. Странно, она прежде не умела судить людей и думать о них так, как сейчас думала, и не могла держать себя так уверенно и просто. Может быть, она уже знала теперь цену самой себе и поэтому могла судить и оценивать других?..
В половине двенадцатого прибежала сестра из больницы: привели пьяного с пробитой головой.
Лера просила Ларису с Соней остаться, но те не захотели. Пока они одевались, Лера выскочила на улицу и побежала прямо в «гвоздиках» по скользкому тротуару. Шел снег, и где-то вовсю горланили: «Бродяга Байкал переехал…»
Голову пробили огромному детине Васюку, лесорубу, рана была большая. Лера обрабатывала ее два с лишним часа; казалось бы, десять раз надо потерять сознание, а Васюк только покряхтывал и вновь рассказывал Лере, как он троих повалил, а четвертый-то, паразит, с кирпичиной набежал.
— Кабы я шапку-то не обронил, — жалел он, — то бы и ничего…
— Да молчите вы! — приказала Лера. — Нельзя вам говорить, у вас сотрясение, может быть.
— Натуральное сотрясение, — шутил Васюк. — Кирпичина-то, знаешь, какой…
Кроме Васюка, поступила потом еще одна жертва веселья — с ножевой раной в боку, — тот самый парень, который танцевал с Лерой в клубе. Звали его Гешка Малых. Рана пустяковая, скользящая, только кожа вспорота, и держался парень храбро и никак не хотел штаны снимать.
— Это я сам напоромшись, — твердил он. — Сам, слышь!
Он опять был выпивши, и тот же галстук голубой на нем, и усишки блестели.
— Какого черта сидишь! — закричала Лера. — Ну-ка, живо! «Напоромшись»!
Вместо запланированных безобидных и спокойных старушечьих зобов и фурункулов пришлось обрабатывать настоящие раны — вот тебе и Восьмое марта!
А прямо из лесу, с лесоповала, доставили еще одного надорвавшегося на работе — там два дня прогуляли, а потом аврал пошел, — вот этот Малинин и надорвался. Ох уж Лера и честила этого испуганного, одуревшего от боли мужичонку и тех, кто его привез!
Читать дальше