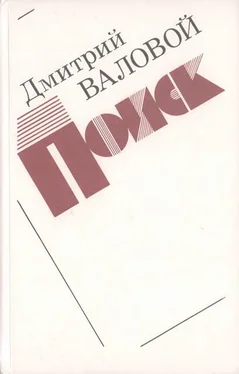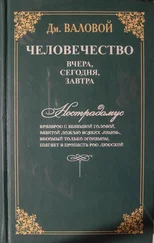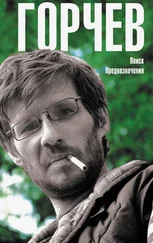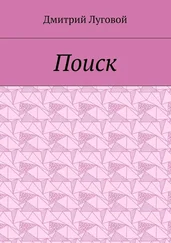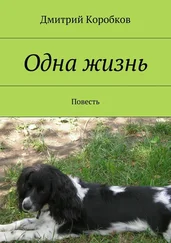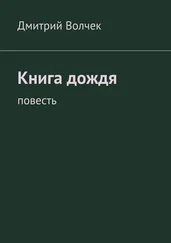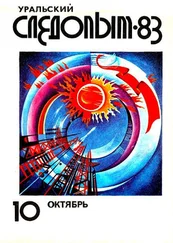– Вполне логично, – заметил Венидиктов.
– Формально да, но по существу никакой тут логикой не пахнет, – возразил оратор. – Дело в том, дорогие товарищи, что в прошлом году в девятнадцать процентов не мы укладывались, а просто нас «укладывали» в это прокрустово ложе. Лимитом по труду нам утвердили девятнадцать процентов к объему выполненных работ, и ни копейки больше Стройбанк нам не отпускал. Если бы мы нормально работали и вводили в строй объекты по графику, то не смогли бы обеспечить коллективу зарплату. Как же мы выкручивались, можете спросить вы.
А очень просто: брали все новые и новые объекты и выполняли там самые выгодные работы. Это вело к тому, что незавершенное производство у нас год от года росло – сейчас оно равно почти трехгодичной трестовской программе. Иными словами, чтобы сдать недостроенные объекты, нам надо в течение трех лет работать только на них, не начиная ни одного нового. Такая картина не только в нашем тресте. Почему же растет незавершенка? Она, как вы знаете, стала притчей во языцех. Чем больше мы говорим о ее снижении, тем быстрее она растет. Главная, коренная причина ее роста, на мой взгляд, – ненаучный принцип определения фонда зарплаты. Я убежден: пока зарплата зависит от объема в рублях, сократить незавершенку до норматива очень трудно, а кое-где просто невозможно. Буду очень рад, если мой прогноз не подтвердится…
Что же происходит? Мы срываем сроки сдачи, об этом вы знаете. За нарушение графиков ввода объектов в строй нам, как правило, объявляют выговор. На мне, например, перед новым назначением «висели» строгий и два обычных выговора. Какой порядочный строитель без выговоров? В нашей отрасли их количеством иногда просто гордятся. Выговор можно стерпеть, а вот если вы не выплатите рабочим зарплату – голова с плеч. Поэтому единственная «палочка-выручалочка» в наших условиях – увеличение незавершенки.
Росту ее способствует и неверный метод распределения капиталовложений. У нас есть немало так называемых замороженных строек, то есть чемоданчиков, которые перестали заполнять, и они стоят с открытыми крышками. Откуда они берутся, такие объекты-чемоданчики? Дело в том, что каждый заказчик пытается пробить, утвердить, включить в титульные списки свой объект и зачастую этого добивается. Мы начинаем строить: ведем земляные работы, устанавливаем кран, укладываем фундамент, завозим кирпич… А на следующий год другие заполучают капиталовложения, более пробивные заказчики… Начатая стройка замораживается, а мы, подрядчики, узнаем об этом нередко лишь в феврале – марте, после утверждения титульных списков. Нам ничего не остается, как переходить на другие объекты-чемоданчики и заполнять их выделяемыми ресурсами под объем работ в рублях… И таких объектов немало. Обратите внимание, сколько стоит в иных городах «мертвых» кранов!
Вы знаете, как много занимаемся мы и реконструкцией предприятий. Очень нужное, выгодное для экономики дело, но строители отбиваются от него как черт от ладана. Их можно понять. Реконструкция – это прежде всего большой расход заработной платы – ведь стоимость вновь устанавливаемого оборудования в объем работ не включается, а работать в действующих цехах приходится в основном вручную.
Реконструкция просто разоряет строителей…
Для удорожания работ иные коллективы стараются отказываться от дешевых материалов, применяются более дорогие, хотя сейчас в строительстве можно использовать дешевые, легкие материалы и конструкции…
В общем, проблем у нас немало. Но особенно волнует работников нашей отрасли планирование материально-технического снабжения. Ныне в строительстве все более широкое распространение получает так называемый «миллионник».
– Что это такое? – нетерпеливо бросил сразу кто-то из зала.
– «Миллионник» – это принцип распределения материальных ресурсов на миллион рублей капитальных вложений по определенным нормам, – принялся пояснять Пономарев. – Например, тресту утвердили план на год тридцать миллионов рублей. На эту сумму ему Главснаб и выделяет по норме металл, цемент, кирпич, гвозди и другие материалы, вместо того чтобы выделить то, что указано по смете каждому замороженному объекту-чемоданчику. Между фактической потребностью согласно проектно-сметной документации, обозначенной на чемоданчике, и выделяемыми ресурсами по «миллионнику» по многим материалам разница составляет от десяти до двадцати процентов. На многих объектах вечно чего-нибудь для завершения не хватает, а по ряду материалов образуются излишки. Отсюда и начинается натуральный обмен: ты – мне, я – тебе…
Читать дальше