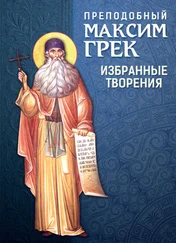— Друг мой, я на пенсии. — Светлана отбила перекинутый ей через сетку мяч. — Особых сведений не имею. И, ты знаешь, совсем от этого не комплексую. Времени свободного куча. Пенсия хорошая. Хожу по музеям, в театры.
— Неужели ты уже на пенсии? — Саблин удивился искренне, но, мгновенно осознав бестактность, поменял тему. — У вас, я посмотрю, со спиртным в Москве не так уж и тяжело, как везде. По стране одни безалкогольные свадьбы. Дружинников и членов обществ трезвости на них больше, чем друзей и родственников, как говорят.
«Кто говорит? Откуда он вообще взялся? Где теперь его дом? И есть ли он у него? На что он рассчитывает? Он никогда ничего не делал, не продумав во всех деталях. Ведет себя так, будто и вправду педагог иностранного языка из провинции», — недоумевала Храповицкая.
— Загашники просто большие. А так то же самое. Общества трезвости везде организуют. Пьющих отслеживают. Позорят. Бред какой-то. Слышал, что в Крыму по указу Лигачева все виноградники вырубили? Говорят, все под корень. Хотя ничего удивительного. — Светлане вдруг стало жутко холодно, и она испытала острейшее желание прижаться к Волдемару и попросить его ее согреть. Как раньше.
— Почему ничего удивительного? — Аглая пристально всмотрелась в Светлану Львовну. — По-моему, это действительно дикость. В консерватории вон тоже общество трезвости создали. А возглавил его педагог по истории партии. Я, кстати, в прошлом году встретила его случайно на Тверской, так от него разило, как из пивной бочки.
— Эх, девочка моя! — Храповицкая решила не вовлекать Динскую в политические диспуты сейчас. — Когда доживешь до моих лет, тебя тоже мало что будет удивлять. Даже пьяный педагог по истории партии.
— Ну что вы! До каких лет? Вы прекрасно выглядите. Насчет пенсии вы, наверное, пошутили?
Светлана Львовна впервые, наверное, за весь этот день улыбнулась без всякой задней мысли.
Милая безобидная лесть — самый верный способ успокоить человека. И почти никто не задается вопросом: зачем человек тебе льстит?
— Давайте все же окно закроем. Что-то холодно становится совсем, — предложила Храповицкая.
Волик незамедлительно исполнил ее просьбу. Для этого ему пришлось встать коленями на подоконник, чтобы задвинуть высоко находящийся шпингалет. «Когда открывал, он то же самое проделывал? Аглая попросила или сам надумал?» — не без раздражения размышляла Светлана.
— Аглая счастливица, учится в консерватории, — мечтательно протянул Саблин. Все трое уже минут пять как затушили сигареты и выбросили окурки в пустую банку из-под индийского кофе. — Я всю жизнь мечтал научиться на чем-нибудь играть. Но увы, так и не привелось…
— Светлана Львовна, я, кстати, взяла у вас с кухни вот эту кофейную банку. Извините, пепельницы не нашла нигде. А вас отвлекать не хотелось, вы по телефону разговаривали. Ничего? — повинилась Аглая. — Я пойду к ребятам, а то они уж, наверное, скучают. Вы еще будете курить или банку забрать?
— Оставь пока. — Светлане Львовне не терпелось, чтобы Аглая куда-нибудь наконец делась.
* * *
Как только Аполлинарий Отпевалов услышал по телевизору первое выступление Горбачева после избрания того генеральным секретарем ЦК КПСС, ему все стало ясно. Этот человек намерен играть по своим правилам, это в нем заложено генетически, его не остановить, равно как и не объяснить, как легко чужие правила принять за свои, если чересчур самонадеян и неразборчив в методах. Он попал на это место случайно, и он не понимает, как сохранять государственность на этой огромной бестолковой территории, где всякий местный руководитель из цивильного капээсэсовского клерка легко превращается в вожака племени, если снять с него удавки страха перед высшей силой, перед карающей государственной машиной, перед высшей центральной властью. Пока царек наместник властителя, он держит себя в рамках. Если ему дается самостоятельность, он теряет меру и превращается в беспредельщика. Горбачеву кажется, что надо дать царькам свободу, право принятия решений, избавить их от чрезмерного давления сверху. Но если государственная машина не карает, она уже не машина. Ха-ха. Ехать будет не в чем, дорогой Михаил Сергеевич! А ведь до него все-все, без исключения, осознавали: не будет народ жить в страхе — пожрет и пропьет сам себя, уничтожит без остатка. А этот решил, что надо социализм с человеческим лицом установить, демократию вспомнил, при всем этом еще и водку запретил пить. И некому объяснить ему, что нашему человеку без кира никакая свобода не нужна, для него свобода и есть бухло. За него он любое лицо из человеческого нечеловеческим сделает. Социализм с человеческим лицом. Они этим идиотским выражением уже все перечеркивают, свою же пропаганду. А до этого с каким он был лицом? С людоедским? С животным? А может, это и не социализм тогда никакой, если с человеческим? Никому в башку это не пришло? А ведь эти вопросы им скоро зададут. Жидята первые прибегут. Тогда придется почесать Генеральному лысую свою башку, ох придется!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу