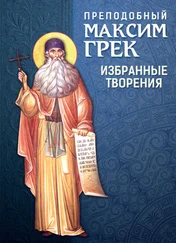Веньку по его просьбе перевели в Ленинградский мединститут без всяких проблем. Только учись, получай профессию и отца цени… Только никогда он отца так и не оценил по-настоящему. А после чертовых выходок Хруща в 1956 году как будто и стыдиться его начал. Хоть сын и не проговаривался об этом, Аполлинарий Михайлович чувствовал. Его сложно было провести. Однажды он нашел у него в столе тетрадку со стихами. Ужаснулся. Сынок бумагомарателем заделался! Эх… Зачем? К чему? Врач — профессия основательная. Чего ему не хватает? Мало этих поэтишек теперь с эстрады кричат, Сталина клеймят, прочую ахинею несут. Был бы жив Иосиф, пели бы ему оды, как пить дать, подумал тогда полковник Отпевалов.
Основательности, как показала потом жизнь, сыну не хватало категорически. Жену нашел себе какую-то порченую, достаточно одного взгляда, чтобы понять: такая ни перед чем не остановится, если что-то вобьет себе в голову. Да и Венька хорош: заделал ей дочку и вскоре после ее рождения смылся. Как-то слышал Аполлинарий Михайлович, как он плакался матери, что супружница ему не верна и что он терпеть это дальше не намерен. А куда раньше смотрел? Стишки кропал? Не до этого было? Эх, стихоплет, стихоплет. Теперь в Москве живет, как он говорит, с женщиной своей мечты. Мечтатель! Даже на похороны матери опоздал на день. Дежурство в больнице, видите ли, отменить не мог. А мать-то и зачахла так быстро из-за того, что обожаемый ее Венечка от нее уехал. Смешно! Мужнин арест перенесла, а отъезд сына нет. Теперь он кардиолог, сынок его. Спец по сердечным болезням! Звонит по праздникам. В другие дни — молчок. Будто и нет у него отца.
А внучка получилась что надо. Независимая, красивая, породистая, с норовом, умная, не для этой жизни. Мать иногда привозила ее к нему, когда не с кем было оставить. Недолюбливали они друг друга с бывшей невесткой, но делать нечего. Гулять ей надо было с мужиками, а ребенок — помеха. Девать некуда. Тут и пригождался Аполлинарий Михайлович. Когда Лену забирали обратно, он немного расстраивался. Ни к кому не привязывался в жизни, а к внучке привязался. Не до такой, разумеется, степени, чтобы себя не контролировать, но тем не менее.
И даже то, что из-за нее, вернее, из-за ее муженька-пианиста пришлось ему в отставку уходить, его не огорчало. Рано или поздно все равно бы это случилось.
Музыканты народ ненадежный. Надо было предупредить внучку, когда она за этого лабуха выходила. Но она ни к чьим советам не прислушивалась. А это Аполлинарий Михайлович относил к хорошим качествам. Потому не стал вмешиваться.
Как-то раз по радио транслировали концерт оркестра Баршая. В частности, исполняли «Реквием» Лапшина. «Реквием» памяти жертв репрессий. Поди ж ты, все не унимается. Тот вал, который в свое время Отпевалов на него обрушил, уж должен был его накрыть с головой. Но он все еще вылезает, гниденыш жидовский. Как он тогда улепетывал с Собачьей площадки! Ноги чуть не выше задницы взлетали. Смешно вспоминать. Неужто отмылся, оправдался? Вряд ли, вряд ли.
Впрочем, сейчас это все неважно.
Сегодня, в этот сырой день декабря 1985 года, стемнело, как всегда в эту пору, рано. Он сидел в кресле, не облокачиваясь на спинку, прямо как истукан, разглядывал окна на противоположной стороне улицы, размышляя над тем, что поведал заскочивший к нему сегодня днем сосед Виктор Толоконников, много лет служивший во Внешторге, болтливый тип с вечно сальным лбом и жидкими волосами. Каждая клетка в его стариковском, но вполне еще крепком теле уговаривала его: пора действовать!
Ни одно окно в доме напротив не горело.
* * *
Как ни удивительно, Светлана обрадовалась, что Генриетта позвонила. Вся злость на нее куда-то улетучилась, хотя еще несколько часов назад она была готова порвать с ней навсегда, вычеркнуть ее из памяти без всякой возможности реабилитации. Подруга начала разговор с извинений, сказав, что погорячилась, что конечно же не имела права так себя вести и что очень сожалеет об их размолвке. Храповицкая для порядка напряженно помолчала несколько секунд, а потом пожаловала Платовой индульгенцию. Случись их ссора хотя бы днем раньше, Светлана Львовна наверняка не сменила бы гнев на милость так скоро. Да и сейчас она не до конца была уверена, что поступила правильно. «Конечно, она не права и стоило бы ее проучить, чтоб неповадно было лезть со своими выводами в мою жизнь. Со своей пусть лучше разбирается. А мне еще один урок: доверять здесь, как бы ни тянуло на откровенность, нельзя никому, даже самым-самым проверенным и близким», — размышляла Храповицкая, выходя из своей спальни. И все же, как бы она себя ни заводила, ей стало спокойней после примирительного разговора с Генриеттой. Ведь ее характерный, с чуть глуховатым тембром, голос, который почти не изменился с юности, ее глубоко посаженные большие глаза, всегда спокойные, светлые и бесповоротно уверенные в своей правоте, ее квартирка на улице Черняховского с двумя смежными комнатами и маленькой кухней со столом, покрытым клеенкой, ее мама Зоя Сергеевна, несмотря на возраст, сохранившая сварливую властность, ее похожий на павлина сын Бориска, с которым постоянно что-то приключалось и потом долго обсуждалось со всеми знакомыми, давным-давно вошли в ее жизнь, укоренились в ней, были частью обычного порядка вещей. И сейчас, когда вокруг нее закружилась немыслимая круговерть с участием тех, кого она не видела долгие годы и кого уже и не надеялась увидеть, и все это требовало от нее каких-то действий, причем незамедлительных, ей надо было во что бы то ни стало зацепиться за что-то хоть мало-мальски прочное, надежное, такое, как дружба с Генриеттой. Поэтому извинения Платовой пришлись как нельзя кстати. Хоть в чем-то надо восстановить мир…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу