— Милейший господин Кафка, — произнес Гофман, — я понимаю, вам странно слышать такую просьбу от незнакомого человека, и все же осмелюсь повторить ее: пожалуйста, прочтите что-нибудь. Ну хотя бы вот те несколько строк, которые вы сейчас оставили, когда все вычеркивали. Возможно, мне и этого будет достаточно, чтобы понять, что вы за человек. Не обессудьте, прошу вас, уважьте каприз первого встречного.
— То есть как это «первого встречного»? — изумился Кафка. — Я почти все ваши вещи читал. Даже «Угловое окно», это ведь последняя ваша повесть, если не ошибаюсь. Кое-что мне нравилось больше, кое-что меньше, но я всегда завидовал вашему мужеству, вашей воле, умению писать из последних сил. У меня вот такого мужества нет. Сижу здесь, работаю, а в голове только одно: «Франц, ты сюда больше не вернешься!» И все-таки пишу, как видите, стараюсь. Пришел вот напоследок в свое кафе, тешусь иллюзиями…
— Что значит «тешусь иллюзиями»? — возмутился Гофман. — Я вот никакими иллюзиями не тешился. Просто приказал себе писать до последнего вздоха — и все тут. Министру внутренних дел сочинения мои были не по вкусу, он дорого бы дал за мое молчание. Возможно, потому я и писал до конца.
— А когда вы не писали, дорогой Э. Т. А., чем вы занимались?
— Музыкой, разумеется. Только ради музыки я отрывался от писательства по доброй воле. Ну, и профессия моя не раз мне пригождалась. В юности, когда меня еще можно было приневолить, я изучал право.
— Я тоже! — воскликнул Кафка. — Вы где учились?
— В Кенигсберге.
— Профессор Кант случайно не у вас читал?
— Кант? Да, кажется, припоминаю, был такой. Только я не посещал его лекций. Даже не видел его ни разу.
— Что привело вас в Прагу?
— С писателем одним должен встретиться. Большой писатель, посильней меня, а возможно, и посильней вас. Вы ведь до сих пор так и не выполнили моей просьбы — не прочли ни строки. Человека, которого я жду, зовут Гоголь. Он русский. Он сочинил прекрасную, удивительную книгу — «Мертвые души». Вам не случалось ее читать?
— Еще бы! — воскликнул Кафка. — Да я преклоняюсь перед этой книгой! В ней сама Россия, ее просторы и вся широта вольной русской натуры, безудержной в добре и зле! Я всю жизнь мечтал: «Вот бы взглянуть на этого Гоголя, какой он?» Я и другие его вещи очень люблю: «Шинель», «Нос», комедию «Ревизор».
Гофман рассмеялся. Он не верил в дурные предчувствия и все разговоры о «скорой смерти» считал болтовней.
— Так-то вот. Об ином и мечтать не смеешь — а оно сбудется. А в другом уверен, как в себе, — и выходит промашка. Но вам от меня не отвертеться. Читайте вот это, на новой странице.
На сей раз Кафка не заставил долго себя упрашивать. Отчетливо, с расстановкой, словно еще раз проверяя себя на слух, он прочел:
— «Замок тонул в снежной мгле; казалось, он отодвигается все дальше. До наступления ночи туда не дойти, об этом нечего и думать. Только слабый звон колокольчика донесся издалека. Он прислушался: тихий перезвон отзывался щемящей болью, словно мечта, к свершению которой он так стремился, таила в себе угрозу».
Мягкий, вкрадчивый голос звучал глуховато, с легким надломом, каким часто дает о себе знать болезнь. Минуту оба помолчали, вслушиваясь в тишину.
— Мне нравится, — произнес наконец Гофман.
— Мне тоже, — ответил Кафка.
— Мне нравится этот образ: «мечта таила в себе угрозу». О чем это? Что это будет? А замок в снежной мгле, до которого никак не добраться, это, конечно, та крепость на реке, которую я видел по пути сюда?
— Градчаны? Нет, что вы, у меня такого и в мыслях не было.
— Может, потому и не было, что это ваш замок. Он у вас в душе. Вы часто туда ходите?
— Я? Никогда. Между мной и замком сейчас тоже какая-то пелена, вроде метели. Я знаю, конечно, что замок огромен, все эти дворцы, залы… Собор святого Витта. Но я слишком слаб, чтобы туда подняться. Побывать в замке для меня сейчас слишком большая милость. — Кафка оживился. — Я пишу роман, — продолжал он. — Представьте: в деревенский трактир приходит землемер. Его якобы вызвал на работу владелец замка. Тут-то все и начинается. Кто нанимал землемера, и нанимал ли его кто-нибудь? А он стремится получить то, что чиновники называют «дозволением на жительство», по-простому говоря, ему нужно пристанище, крыша над головой.
— Иногда и это можно назвать милостью, — пробормотал Гофман.
— Да, и в конце концов мой землемер получает дозволение на жительство, которое вы назвали милостью, но получает его уже на смертном одре.
Читать дальше
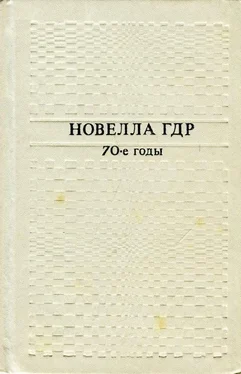





![Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]](/books/201531/yuozas-baltushis-prodannye-gody-roman-v-novellah-thumb.webp)


![Петра Вернер - Неожиданный визит [Рассказы и повести писательниц ГДР]](/books/414133/petra-verner-neozhidannyj-vizit-rasskazy-i-povesti-thumb.webp)
![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)

