Гоголь вдруг оживился, он словно сбросил с себя личину набожности и сразу стал самим собой.
— Как раз в этой повести, в конце ее, у меня весь мир растворяется в диком полете. — И он на память прочел:
— «Значительное лицо, побывав в гостях у приятеля своего, сел в сани, приказал кучеру трогать, а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь… Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, выхватившийся вдруг бог знает откуда… Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом, поношенном вицмундире и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича… «А, так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек — отдавай же теперь свою!..» Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам…» [6] А. Зегерс цитирует произведение Н. В. Гоголя с текстуальными отклонениями.
Оба собеседника слушали не отрываясь, в их лицах отражались радость, задумчивость и удивление.
Подошел кельнер, разгрузил поднос. Гоголь принялся за печенье — не без неприязни, ему хотелось чего-нибудь посущественней. Потом повернулся к Гофману:
— Мне не все ваши сказки одинаково нравятся. Чем они меня всегда восхищают — так это неожиданностью, дивной игрой фантазии. У вас просто дар строить самый невероятный вымысел, оттолкнувшись от форменного пустяка — от дверной ручки, от блохи какой-нибудь. Одного только не могу уразуметь: зачем вы так легкомысленно обходитесь со временем? Вы же обращаетесь с ним как вам заблагорассудится. Сегодня у вас случается то, что на самом деле случилось вчера, иная история началась двести лет назад, а вы, как ни в чем не бывало, эти двести лет перескакиваете и пишете продолжение. Законы времени, я так полагаю, и в вымышленном мире действенны. Да, после смерти Акакия Акакиевича призрак его ночью вцепляется в шинель тайного советника. Я тоже люблю смешивать действительность с вымыслом. Но ход времени соблюдаю свято. Бедному Акакию Акакиевичу пришлось последние копейки на эту шинелишку откладывать, он долго их копил, страшные лишения терпел. Вы на себе должны почувствовать, как тянется это время, как долго он копит эти деньги, только тогда понятно, чего стоила Акакию Акакиевичу его обновка и каково ему потом этой обновки лишиться. И вот он умирает от отчаянья — и лишь после является призрак.
— Плевать я хотел на время, — перебил его Гофман. — У меня в повести двое ученых, оба голландцы, а встречаются во Франкфурте-на-Майне, да притом один из них, прошу заметить, давным-давно в Утрехте похоронен. Он — первый изобретатель увеличительного стекла, или, проще говоря, лупы. А мне в повести позарез нужна лупа! Я даже усовершенствую его изобретение, у меня это ночная лупа, и с помощью этой лупы все мелкие твари, обитатели блошиного цирка, внезапно предстают в таком чудовищном увеличении, что публика в страхе разбегается. Разбегается от одного вида всей этой копошащейся массы стократно увеличенных вшей, блох, мошек, которых невооруженным глазом и не разглядишь.
Да взять хотя бы и нас троих. Разве смогли бы мы встретиться, я уж не говорю — мирно посидеть за одним столом, если бы всерьез придерживались законов времени? Разве моя жизнь не совпала с вашей, Гоголь, лишь коротким сроком? И разве не жили вы сами почти столетием раньше Кафки?
Вполголоса, точно рядом никого нет, Кафка проговорил:
— И все же время неминуемо присутствует и в моей жизни, и в моих книгах. Моим героям лица не нужны, лица читатели сами придумают. Как человек поведет себя в определенных обстоятельствах, что почувствует — вот что мне важно. Я, к примеру, очень хорошо представляю, как всполошится милый мои сосед, если меня вдруг ни с того ни с сего однажды арестуют, уведут, опечатают квартиру. Милый мой сосед начнет строить догадки, мол, не одно — так другое. Но я могу вообразить и иное: каково приходится жертве, над которой нависла загадочная, непостижимая власть. Но и угроза, и предчувствие беды — кстати, они ничуть не менее реальны, чем лицо человека или его характер, — все эти вещи существуют во времени, надвигаются вместе с ним, тут Гоголь прав.
Гоголь снова принялся ругать непутевое кафе, в котором и не поешь толком. Но идти в трактир времени уже не было. Скрепя сердце он снова заказал кофе и рогаликов — теперь уже на всю компанию.
Читать дальше
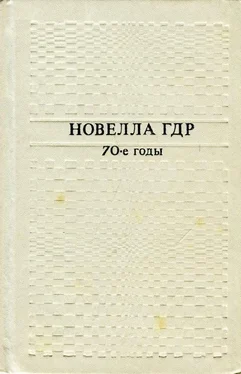





![Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]](/books/201531/yuozas-baltushis-prodannye-gody-roman-v-novellah-thumb.webp)


![Петра Вернер - Неожиданный визит [Рассказы и повести писательниц ГДР]](/books/414133/petra-verner-neozhidannyj-vizit-rasskazy-i-povesti-thumb.webp)
![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)

