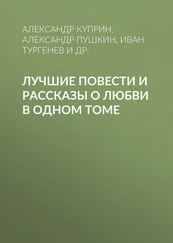— Ты мне наконец скажешь, что все это значит? — Это спрашивал Хейнц, спрашивал сердито, сжав губы и наморщив юношески гладкий лоб.
Доктор Геппнер забарабанил ногтями по окну.
— Отец, — сказал мальчик громче, стараясь перекричать шум колес. — Почему ты забрал у меня паспорт, почему вы взяли меня в Берлин, почему мы не остановились в гостинице?.. Уж не хотите ли вы?..
В его голосе послышалось что-то похожее на страх, на страх, смешанный с негодованием. Заспанный господин удивленно уставился на них.
— Да, конечно, мой мальчик, этого мы и хотим, — ответил твердо д-р Геппнер. — Я тебе все объясню позже.
Поезд подъезжал к станции Цоо.
— Пошли, — сказал д-р Геппнер. Он взял чемодан, сделал Хейнцу знак, чтобы тот взял другой.
Когда они, пройдя через контроль, спускались по серым, грязным ступенькам вокзала, д-р Геппнер стал думать о том, что, собственно, побудило его отдать пакет шоферу. Не потребуют ли у него здесь эти документы? И зачем он написал Бахману письмо? Правда, в письме было всего несколько сухих строк о том, что он отказывается от своей должности на заводе и прилагает к этому заявлению соответствующие документы. Д-р Геппнер терпеть не мог неясностей: разрыв должен быть корректным, и зачем возбуждать к себе излишние недобрые чувства. Беда только, что Бахман очень умен. Он сразу почувствует, что это письмо — своего рода извинение и что уважаемый д-р Геппнер оставил себе что-то вроде мостика, пожалуй, даже не мостика, а тоненькой веревочки, чтобы с ее помощью можно было снова перебраться через пропасть, которую он сам вырыл своим бегством.
Но ведь у него не было такого намерения, когда он писал письмо. Не было! Ни в коем случае не было!
О, какой здесь комфорт и уют! Уют и комфорт!
Можно выспаться вволю, поздно позавтракать, отдохнуть наконец после всех тех лет, когда тебя постоянно торопили и ты сам подгонял себя… Наконец-то можешь сходить в кино, посидеть в кафе — здесь есть даже ночная жизнь! Все не так, как там, дома, где после восьми жизнь замирает, разве что засидишься в лаборатории, или на совещании, или тебе вдруг позвонят, что ты должен явиться к Бахману на обсуждение какого-нибудь вопроса, которые возникали непрерывно.
Здесь к нему никто не приходил, никто ему не мешал, никто не надоедал. А на заводе его отвлекали ежеминутно. И чаще всего ассистенты, эти молокососы, их было даже жаль, так они торопились за какие-нибудь шесть месяцев узнать то, что дает опыт долгих лет. Он, правда, иногда помогал им, подсказывая время от времени, как правильно решить тот или иной вопрос. Они все сумасшедшие там, на Востоке! Они хотят строить в два раза быстрее, чем позволяют человеческие силы, и поэтому, понятно, спотыкаются, топчутся на одном месте, потом начинают все сначала. И дело бы спорилось, если бы они так не спешили. А хуже всего, что этот изматывающий нервы темп они навязывали и ему. Если прежде приходилось обучать одного-двух человек, теперь к нему приставали десять, а ведь у него была и своя работа! Подумать только, даже рабочие, простые рабочие приходили к нему, переминались с ноги на ногу и говорили: «Господин Геппнер… Может быть… Нельзя ли вот это делать так, а вот это так, тогда нам удастся сократить процесс, и все пойдет лучше, и мы еще сэкономим на этом…» Хорошо хоть, что таких было немного и что их предложения большей частью никуда не годились, но один или два раза они нащупали интересные решения, которые он признал разумными и помог провести в жизнь. А почему бы и нет? Он любил завод. Он начал там работать желторотым птенцом, молодым химиком, сразу после университета; в войну он страдал вместе с другими, когда огромные корпуса завода взлетали на воздух; он был там, когда восстанавливали завод, в этот завод вложена частица его самого, д-ра Геппнера, особенно в новые агрегаты, которые были закончены только в последний год и сейчас вздымаются ввысь, так что их можно увидеть издалека, даже с автострады. Когда машина везла его в Берлин, д-р Геппнер и увидел их — последний кусочек его завода. Давно ли это было? Всего несколько дней назад, а кажется, что прошла вечность.
Он провел рукой по лбу, словно отгоняя от себя эти мысли. Нет, нет, жить там было тяжело и мучительно. Ученый — это ученый, и будьте любезны предоставить ему, такие условия, чтобы он мог заниматься своей наукой, а если, кроме того, он должен заботиться о производстве, не мешайте ему заботиться о производстве и не приставайте к нему с вашим марксизмом и прочими выдумками. Как-то они даже привезли на завод одного из своих деятелей и напустили на ученых, — так он такого наговорил! Если до этой сногсшибательной речи кое-кто еще и колебался, то, выслушав ее, наверняка стал стопроцентным противником их режима. Нелегко пришлось потом Бахману, — после собрания остроты так и сыпались.
Читать дальше
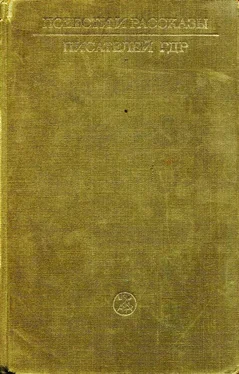









![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)