– Боже, какая тошнота.
Я поставил коробку на крышу, достал из рюкзака урну и взял щепоть папы. Затолкал его в полупустую пачку. Немного подумав, зачерпнул еще и кинул в трубу.
– На всякий случай, – сказал я, садясь точно на то же место, где и раньше.
Мне хотелось сидеть ближе, но я по жизни был абсолютно безвольным, как объятие сбоку.
… …
– Воспоминания бескрайни, словно горизонт, – сказала Мэд.
Я поднял невидимую чашу:
– За Сильвию и Мортимера.
Мэд отсалютовала сигаретой.
– Пусть воспоминания о них будут бескрайне горизонтальны.
Мы посмеялись. В луне – и в Мэд – было что-то такое, от чего мне хотелось говорить. Я и говорил. Я придумывал новые слова, простые слова, и кидал их в тонкий холодный эфир.
– Я скучаю по родителям.
– Я тоже.
– Папа умел рассмешить маму, как никто другой. А теперь она смеется, как все остальные. Фрэнк не принадлежит ей. Они не были созданы друг для друга. Мама говорит, что нельзя строить отношения на литературных предпочтениях, но они с папой всегда любили одни и те же книги. Так что скажи, что я неправ! Фрэнк бы не узнал старо-нового, если бы оно ударило его в его тупую рожу. Он любит консервированную зеленую фасоль. Ты можешь в это поверить? Какой взрослый человек любит консервы из зеленой фасоли? Он что, умрет, если съест свежую фасоль? И боже, его дети – это просто ужас какой-то. У них своя группа, которая называется «Оркестр потеряных душшш», вот да, с тремя «ша». И они меня втайне ненавидят.
– Что ты имеешь в виду?
– Все! Все я имею в виду. Они слишком меня ненавидят, чтобы я мог это объяснить. Понятно?
– Понятно.
…
Мы посмотрели на луну, а потом на спящий грузовик через дорогу и на садового гнома.
Мэд затушила окурок.
– Как думаешь, что это значит?
– Быть старо-новыми? Очевидно, это такая милота…
неуловимое, неописуемое качество.
– Да, очевидно.
– Давай дадим ему определение.
Я был так рад, что после того, как я вывернулся наизнанку, Мэд хотела обсудить именно это. Она не предлагала ни решений, ни сожалений, ни извинений. И не потому, что она не слушала. А как раз наоборот.
– Ты первая.
Мэд прокашлялась:
– Хорошо. Ладно. Может, это значит чувствовать себя старым, но помнить, каково это – быть молодым.
– Или быть молодым, но понимать, что такое быть старым. Ну, как молодой человек с душой старика.
– Или такой утопический образ мыслей, который подразумевает, что, когда ты все на свете уже увидел, услышал и сделал, все равно знать, что где-то там есть что-то новое.
– А может, это просто имя, – сказал я. – Сильвия и Мортимер Альтной.
– Сильвия и Мортимер. Старо-новые.
– Одновременные чрезвычайные противоположности. Мэд приподняла бровь:
– Одновременные что?
На этот раз я подумал перед тем, чтобы сказать. Мне хотелось правильно все объяснить.
– Многие вещи – это две вещи одновременно. – Я показал на ее висок, где локоны падали ниже колен: – У Мэд длинные волосы. – Затем я показал на другую сторону головы, побритую: – У Мэд короткие волосы. Видишь? И то, и другое правда. И чрезвычайно противоположно. И происходит одновременно.
– Одновременные чрезвычайные противоположности, – сказала она и как-то так посмеялась, что я сразу подумал: моя миссия на земле выполнена. – Ну и загадка!
– Загадка, упакованная в тайну, спрятанную в непостижимость.
– В самую великолепную непостижимость.
Мэд склонилась вбок, ближе ко мне, пока ее лицо не было в паре сантиметров от моего. Она смотрела мне прямо в глаза, и мои внутренности превратились в расплавленную лаву. Она заставляла меня забывать о незабываемом.
Я не знаю.
Я хотел ее. Но не в этом смысле. Не только в этом смысле. Я хотел ее во всех смыслах.
И я пытался представить, что она видит, когда смотрит на меня так близко.
– Пока луна разделяет , – пела Мэд, – ты похоронен под ней. И ты выходишь наверх с каждой розой, которая расцветает.
Песня сделала свое дело. Дело, которое делают все хорошие песни. Она заставила меня почувствовать, что это обо мне. И внезапно Мэд схватила меня за запястье. Крепко. Но осторожно. И я разрешил ей.
Она перевернула мою ладонь тыльной стороной вниз. И я разрешил ей.
Она приподняла мой рукав, обнажив холодную кожу.
И я разрешил ей.
Она посмотрела мне в лицо, потом на запястье. Она изучала мои болячки, и в свете лунного серпа они выглядели как-то грустнее, чем обычно. Рваные, неловкие, крохотные дорожки, ведущие в никуда. Сколько раз я повышал свой порог боли. Чаще всего ногтями. А еще цветным картоном, кредитками… но лезвием – никогда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



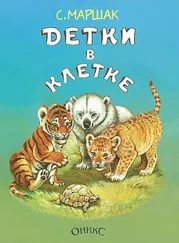



![Дэвид Арнольд - Очень странные увлечения Ноя Гипнотика [litres]](/books/398654/devid-arnold-ochen-strannye-uvlecheniya-noya-gipnoti-thumb.webp)

![Дэвид Арнольд - Электрическое королевство [litres]](/books/433639/devid-arnold-elektricheskoe-korolevstvo-litres-thumb.webp)


