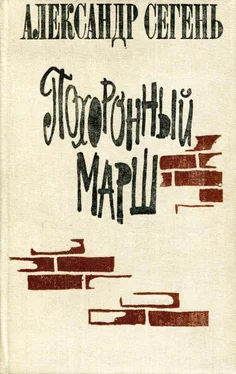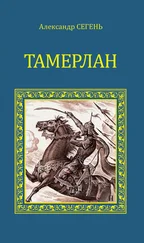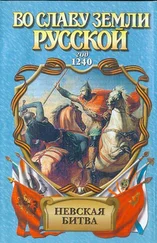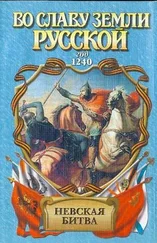— Я покорён!
И тогда мы оба — я и Веселый Павлик — увидели, как великолепное чудовище воздвиглось на задние ноги, вознесло ввысь тяжелые полумесяцы бивней и вострубило о победе по всему заповедному лесу своей памяти. В чащах заворочались динозавры, в небесах засвистели, разрезая воздух, острые крылья летающих ящеров, в ветвях закопошились археоптериксы, гигантские несторы-каки и крупнокалиберные колибри. Саблезубые тигры набросились на нас со всех сторон, я смело выхватывал из костра горящие головни и бросал их в тигров, а Веселый Павлик размахивал мощным дубьем. Он уложил на месте двух крупных хищников, а я подпалил шерсть одному, и мы бы отразили внезапное нападение, но… на нас стали обращать внимание, и пришлось поспешно покинуть зоологический музей.
Когда мы пришли домой к Павлику, я сказал попугаю:
— Ты — нестор-кака. Знаешь об этом?
Он в ответ встревожился, взмахнул крыльями и сердито сказал:
— Роджер! Роджер! Кро-кро-кро-о-о-о-шеч-к!
Однажды я спросил Веселого Павлика, почему бы нам не сходить в зоопарк и не посмотреть на живых слонов и тигров. Он посмотрел на меня страшным глазом мясника и сказал, что ему отвратительна даже сама мысль о том, что он будет спокойно созерцать, как ни в чем не повинное зверье подвергается самой страшной пытке — неволе.
— Ух, я тогда прямо не знаю, что могу сотворить! — прорычал Веселый Павлик, сжав топорные кулачищи и скрипнув крепкими зубами питекантропа. — К тому же, старик, должен тебе сказать, что живой зверь — это уникальное произведение искусства, и его надо видеть в отдельности от всех остальных. Скажем, сегодня мы покупаем с тобой билет и идем в Уссурийскую тайгу смотреть на уссурийского тигра, как мы пошли бы, скажем, на Джоконду или на редкий кинофильм. А завтра покупаем билет и едем в Танзанию…
Он увлекся, и отвратительная мысль о посещении зоопарка постепенно отсохла от него. Побродив по разным климатическим зонам земного шара и насладившись зрелищем разнообразных зверей и птиц, он взял гитару и, ловко перебирая струны неловкими на вид пальцами, громко запел:
Вот моя клетка — стальная, тяжелая,
Как золотая, в вечернем огне.
Вот моя птица, когда-то веселая,
Обруч качает, поет на окне.
Крылья подрезаны, песни заучены.
Любите вы под окном постоять?
Песни вам нравятся. Я же измученный,
Нового жду — и скучаю опять.
Он был очень музыкальный, сам сочинял романсы на стихи Тютчева, Блока, Полонского. Кроме гитары у него было банджо, правда, лишь с одной струной, которой он время от времени делал так: п-эммммм, отличный барабан, который Веселый Павлик называл тулумбасом, более или менее исправный аккордеон и губная гармошка, гораздо лучше, чем у Дранейчика, но не действующая. Когда, потратив полчаса, терпеливо дуя в молчаливый вакуум этой гармошки и не исторгнув из нее ни единого звука, я спросил Веселого Павлика, почему гармошка не играет, он ответил:
— Она умолкла.
В другой раз я спросил его, правда ли, что он в детстве играл на стройке и ему на голову свалился кирпич.
— Кирпич? — задумался он, подтянул к носу губы, повращал глазами и решительно ответил: — Нет, это маловероятно.
Лето кончилось, пошли падать листья, посыпался дождь, повеяло грустью. Надо было идти в школу, в пятый класс. Вечером я заглядывал к Веселому Павлику, и мы уже никуда не ходили — он не хотел. Он затосковал. Сидел часами возле окна и вздыхал.
— Ты что, Павлик? — спрашивал я его.
— Так, ничего, — отвечал он. — Скучаю. Депрессия. У меня же МДП. Маниакально-депрессивный психоз. Так говорят врачи. Осенью особенно положено скучать и печалиться.
Или брал гитару и, перебирая, как четки, струны, без слов гудел одну и ту же мелодию — я до сих пор не знаю, какую.
— Верочка, красавица, — сказал он в октябре, глядя в окно. Я отложил журнал и подошел к окну. Во дворе гуляла мама Сашки Кардашова, тетя Вера. — Красивая женщина, — хорошо, по-доброму, по-настоящему сказал Павлик. — Будь я такой же, как все, нормальный, я б женился на ней. Я ведь ее только на год, кажется, моложе.
На самом деле, как я потом выяснил, в том году ему было тридцать пять лет, а тете Вере — тридцать восемь. Когда он сказал о своем потенциальном желании жениться на ней, я подумал: черт возьми, а ведь он мне в отцы годится! Я осознал, какая между нами огромная разница в годах, и долго еще не мог снова называть его просто Павликом. Лавировал и никак не называл.
В ноябре он, приходя с работы, спал, а в выходные спал с утра до вечера. Я испугался и спросил его:
Читать дальше