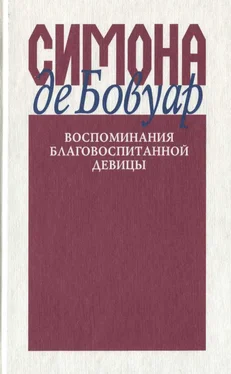Чем хуже шли у него дела, тем ослепительней казалось мне его превосходство; оно не зависело ни от богатства, ни от успеха — я убедила себя, что отец нарочно пренебрег ими. Тем не менее я его жалела: он представлялся мне непризнанным гением, никем не понятой жертвой какой-то таинственной драмы. Я была ему благодарна за вспышки веселья, которые в то время случались еще довольно часто. Отец рассказывал старые истории, высмеивал всех подряд, сыпал остротами. Если вечером он оставался дома, то читал нам Гюго и Ростана, говорил о своих любимых писателях, театре, исторических событиях и вообще о высоких материях — и я оказывалась за тридевять земель от будничного однообразия жизни. Я не представляла себе, что на свете может быть кто-то умнее папы. Какой бы при мне ни завязался спор, последнее слово всегда оставалось за отцом; если он разбирал по косточкам отсутствующих, то стирал их в порошок. Он пылко восхищался некоторыми выдающимися личностями, принадлежавшими к таким высоким сферам, что мне они казались героями мифов, — и тем не менее выходило, что все эти герои небезупречны; более того, чем гениальней они были, тем глубже были их заблуждения; ослепленный сознанием собственного величия, герой не замечал своих промахов и ошибок. К этой категории относился Виктор Гюго, которого отец с упоением декламировал; его сгубило тщеславие. Золя, Анатоль Франс и многие другие не избежали подобной участи. Их заблуждениям отец противопоставлял невозмутимую беспристрастность. Даже те, кого отец бесконечно уважал, даже их произведения оказывались по-своему ограниченны. Отец говорил живо, за мыслью его было не угнаться; он был неиссякаем; люди и события представали ярко, явственно — и отец выносил им свой окончательный приговор.
Отцовское одобрение давало мне уверенность в себе. В течение многих лет папа расхваливал меня на все лады. Я обманула его надежды, войдя в переходный возраст: в женщинах он ценил прежде всего красоту и изящество. Он не только не скрывал своего разочарования, но стал больше внимания уделять моей сестре, которая по-прежнему оставалась хорошенькой. Он весь светился гордостью, когда она изображала на сцене Ночную Красавицу. Иногда отец участвовал в спектаклях своего друга Жанно, который с воодушевлением руководил христианским театром, дававшим благотворительные спектакли в пригороде; Пупетта играла вместе с отцом в «Аптекаре» Макса Море {70} 70 Море Макс (наст, фамилия Раппопорт, 1868–1947) — французский драматург, автор диалогов, пантомим, комедий, драм и балетов. Долгое время возглавлял некоторые парижские театры, такие как «Капюсин», «Гран Гиньоль», «Варьете».
; по плечам у нее лежали белокурые косы. Папа научил ее читать басни — не торопясь, с паузами, интонационно выделяя нужные места. Сама себе боясь в этом признаться, я страдала от их сообщничества и в глубине души злилась на сестру.
И все же главной моей соперницей была мать. Я мечтала о том, чтобы у нас с отцом были собственные, ни от кого не зависящие отношения, но даже те редкие мгновения, когда мы оставались вдвоем, мы разговаривали так, точно мама была рядом. Обратись я к отцу в случае конфликта, он ответил бы: «Делай, как говорит мама!» Один раз мне все же понадобилась его поддержка. Родители повезли нас в Отёй на скачки; газон был черен от народа; стояла жара, скачки всё не начинались, и я скучала. Вдруг прозвучал сигнал старта, зрители повалили к барьеру; их спины загородили мне беговую дорожку. Отец взял нам напрокат складные стулья, и я хотела влезть на свой ногами. «Нет», — сказала мама, ненавидевшая толпу, раздраженная давкой. Я настаивала. «Нет и еще раз нет», — повторила она. Мать занялась сестрой, а я повернулась к отцу и выпалила в сердцах: «Это смешно! Почему мама не разрешает мне влезть на стул?» Отец только смущенно пожал плечами.
Этот неопределенный жест позволил мне, тем не менее, предположить, что в глубине души отец находил мою мать излишне императивной; я верила в молчаливый сговор между ним и мной. Но это была иллюзия, и я ее утратила. Как-то за завтраком речь зашла об одном нашем взрослом кузене, который считал идиоткой собственную мать; мой отец подтвердил, что, на его взгляд, это соответствует истине, но тотчас с жаром добавил: «Сын, который судит свою мать, сам идиот». Я покраснела и, сославшись на недомогание, вышла из-за стола: ведь я судила собственную мать. Отец нанес мне двойной удар: выразил свою солидарность с мамой и косвенно назвал меня дурой. Но что повергло меня в наибольшее смятение, это то, что я осудила самою произнесенную отцом фразу; если глупость мой тетки так очевидна, почему ее сын должен закрывать на это глаза? Разве это плохо — видеть правду, тем более что обычно люди делают это не нарочно; в данным момент, например, как я могу запретить себе думать то, что думаю? Неужели это преступление? В определенном смысле — нет, и все же отцовские слова уязвили меня так сильно, что, несмотря на уверенность в собственной безгрешности, я стала чувствовать себя чудовищем. Впоследствии — а возможно, отчасти, и в результате этого инцидента — отец перестал быть для меня непререкаемым авторитетом. И все же родители сохранили надо мной власть: они умели внушить мне чувство вины. Я подчинялась их вердиктам, хотя видела себя другими глазами. Мое внутреннее Я принадлежало в равной степени и им и мне; но мое самоощущение могло вдруг, парадоксальным образом, оказаться в их глазах ложным, ошибочным. Было только одно средство избежать смешения истин: скрывать от родителей то, что они не в состоянии были понять. Следить за тем, что я говорю, давно вошло у меня в привычку; я удвоила бдительность. Переступила еще одну черту. Если так или иначе существовали вещи, которые я вынуждена была скрывать, почему бы не решиться на то, в чем вообще нельзя признаться? Я научилась жить двойной жизнью.
Читать дальше