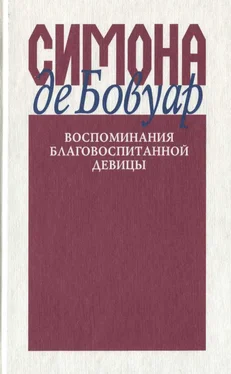«У меня нет индивидуальности», — думала я уныло. Я была любопытна ко всему, что меня окружало; я верила в абсолютность истины, в непреложность нравственного закона; мои мысли подчинялись предмету размышления; если порой они меня удивляли, то лишь потому, что отражали что-нибудь удивительное. От добра я искала добра, из двух зол выбирала меньшее и презирала то, что принято было презирать. Я не видела в себе ничего, что было бы присуще только мне. Я мечтала не знать границ — а стала бесформенной, как беспредельность. Парадокс заключался в том, что этот недостаток я заметила в себе в тот самый момент, когда у меня проявилась индивидуальность: стремление к универсальности казалось мне до той поры чем-то само собой разумеющимся — теперь оно превратилось в черту характера. «Симона интересуется всем». Я вдруг почувствовала ограниченность отрицания границ. Мое поведение, идеи, которые я спонтанно усвоила, в действительности являлись результатом моей пассивности и всеядности. Вместо того чтобы оставаться чистым разумом, помещенным в центре Мироздания, я ограничилась самовоплощением: это было неприятное открытие. Внезапно увиденное собственное лицо разочаровало меня, жившую, подобно Богу, вообще без лица. Вот почему я с такой поспешностью ударилась в самоуничижение. Если я была всего лишь одной из многих, то любое мое отличие от других могло оказаться не подтверждением моего превосходства, а проявлением ущербности. Родители перестали быть моим надежным гарантом. Зазу я любила так сильно, что она казалась мне реальней, чем я сама. Я была ее негативом. Я не отстаивала свою индивидуальность, а нехотя с ней мирилась.
К тринадцати годам я прочла книгу, надолго ставшую для меня аллегорической. Это был «Афинский школьник» Андре Лори. Теаген, серьезный. старательный, рассудительный мальчик, был покорен юным аристократом Эуфорионом — утонченным, элегантным, блистательным, остроумным и дерзким, приводившим в восторг и товарищей, и учителей, хотя последние нередко корили его за беспечность и развязность. Эуфорион умер в расцвете юности, а Теаген, пятьдесят лет спустя, рассказал эту историю. Заза виделась мне юным златовласым эфебом, себя же я идентифицировала с Теогеном. Люди вообще делились на две категории: одни были одарены свыше, другие должны были заслужить свое место — и именно к этой второй категории я относила себя.
Скромность моя была двусмысленной; «заслуженные» должны были восхищаться «одаренными» и выказывать им преданность. Но в конце концов именно Теаген пережил своего друга и поведал о нем; он воплотился в память, в сознание, в главный Субъект. Если бы мне предложили стать Зазой, я бы отказалась: мне больше нравилось владеть вселенной, чем собственным лицом. Я продолжала верить, что только я смогу обнажить реальность, не исказив ее и не умалив. И все же, сравнивая себя с Зазой, я горько сокрушалась по поводу моей заурядности.
Отчасти я стала жертвой миража: себя я ощущала изнутри, Зазу видела снаружи — игра была неравной. Мне казалось невероятным, что Заза не может притронуться к персику или даже просто посмотреть на него без того, чтобы по коже у нее не пробежали мурашки; в то же время мое отвращение к устрицам казалось мне чем-то само собой разумеющимся. Больше никто из моих приятельниц меня не удивлял. Заза поистине была существом исключительным.
Из девятерых детей четы Мабий Заза была третьим по счету ребенком и второй девочкой; у матери не было времени долго с ней нянчиться; с ранних лет Заза разделяла жизнь своих братьев, их друзей и кузенов и переняла мальчишеские повадки; ее рано начали считать взрослой и возлагали на нее ту же ответственность, что и на старших. Мадам Мабий вышла замуж двадцати пяти лет за истого католика и, сверх того, своего кузена; к моменту рождения Зазы она уже прочно утвердилась в положении матроны; будучи типичной представительницей правоверной буржуазии, она шла по однажды выбранному пути со спокойной уверенностью великосветской дамы, которая настолько хорошо знает этикет, что позволяет себе в случае необходимости отступить от него. Мадам Мабий легко прощала своим детям невинные шалости; непосредственность и внутренняя свобода Зазы были отзвуком горделивой непринужденности ее матери. Меня потрясло, что посреди экзамена по фортепьяно Заза осмелилась высунуть язык, — это значило, что она уверена в материнской снисходительности; посторонние для них не существовали, к приличиям ни та, ни другая не относились всерьез. Если бы я позволила себе какую-нибудь вольность, моя мать сгорела бы со стыда: моя законопослушность была отражением ее робости.
Читать дальше