Нужны новые люди, новые идеи. Эти уже закостенели, застыли на трусливых догмах. Им бы только жить. Даже после вождя.
И главное, чтобы каждый знал, как ему ни скверно, что кому-то еще хуже. Вот и в аду не один, а как утверждают – девять кругов. Соседу хуже. И ты можешь еще добавить ему, поверх головы догрузить. Позволено, разрешено. В тридцать седьмом да тридцать девятом уже и остановить трудно было. Лаврентий даже хохмил: скоро и сажать некого будет! И некому! Только начать. Посмотрим, посмотрим, куда все эти болтуны, мемуаристы денутся. Как ветром сдует.
Народ болтунов любит. Но святых иметь обожает, хлебом не корми, а святого подай! Отняли царя, Боженьку – из Мироныча святого стали лепить. Ну что ж, мертвый святой – еще святее. Так что все правильно.
Ах, как этот самый Мироныч перед голосованием, когда его посетила «черноземная» делегация – челом били, звали на трон, генсеком, – как он разволновался. А не потому ли, что ходоки угадали его темные мысли – почувствовали подлецы: ихний, свой! А златоуст решил, что его трусливый отказ сесть на место товарища Сталина дает ему право всех поучать. Ах, будь не такой-разэтакий, а будь хороший, лояльный, доступный, как я! Как, как всем им хотелось, хочется на свой копыл переделать, перетянуть. Он, значит, им свой, против него только три голоса, а три – это не триста. (Исподтишка напакостили в урну, насолили товарищу Сталину – победители!) Да только не то важно, как голосуют, важнее, кто подсчитывает голоса!.. А этот лавочник Лазарь уверен, что по гроб жизни ему обязан за его арифметику – за то, что всем оставил одинаково по три голоса.
Пакостят трусливо, с бегающими глазками. Одна только Надя всегда высказывалась открыто – в лицо. Проклятая цыганская, аллилуевская порода! Мамочка все науськивала. Надя уже криком кричала: «Ты зверь, зверь! Зачем ты приказал расстрелять ребят из нашей Промакадемии?! Нет, это я, я виновата! Они мне поверили, а я думала, ты на самом деле не знаешь, что люди, что дети уже пухнут от голода в твоих колхозах. Рассказала тебе, дура, что люди говорят. Да не мама, чего ты к ней вяжешься, – все люди! Фамилии выспрашивал, я говорить не хотела, я чувствовала. Ты и тут из меня шпика сделал! Кто возле тебя, сам становится таким же. Теперь я понимаю – а тогда была дура! – чего ты добивался от меня в Горках. Тебе надо было шпионить за Владимиром Ильичем… Ты и из него зэка сделал. Всех засадишь за проволоку и будешь на всю страну улыбаться: обаятельный, сердечный грузин! Все скоро будут тебя ненавидеть. Куда спрячешься от всех? Как можно так жить? Это же страшно, что, что ты с собой делаешь?..»
Пожалела! На том проклятом вечере молчала, но глаза кричали, я же видел. Ну, виноват, ну, не сдержался. Я же видел, о чем она думает, никого не слышит, не замечает. Ну, разозлился: «Выпьем за разгром оппозиции!» – не поднялась, назло, из упрямства. «Эй ты!» – что-то еще сказал. Наверное, обидное. Но и я, и мне нелегко – один остался, все злорадствуют, ждут, когда Сталин с его колхозами рухнет. И она с ними, не со мной. Говорят, плеснул в лицо ей из фужера. Или окурок швырнул. Не помню. Был потом на даче. Со зла – с бабой поехал. А она позвонила, ей сказали: тут жена такого-то. А эта дура взяла и застрелилась. Убежала домой и застрелилась. Письмо оставила… И провожала ее, между прочим, молотовская Полина, хитрая жидовочка Жемчужина. О чем, о чем они разговаривали? Успокаивала! Знаем, как вы умеете успокоить. Наверное, про наших с Авелем балерин сплетничала. Наверняка!
Нужна, нужна свежая кровь, молодая! Люди, для которых ничего без Сталина нет и не было, для которых товарищ Сталин был всегда и не быть его не может.
И пистолетик-то игрушечный, раз в год стрелял!..
Глаза здесь, они не уходят, не отступают. Недобрые глаза монашенки. Проклятая старуха! Да, да, да, злой, грубый, жестокий, хуже некуда! Что еще, что?
…Что это? Кто, кто там? Шарят по двери чьи-то руки, пытаются открыть, войти. Где наган, что это? Всегда же был под подушкой! Куда, куда Матрена запрятала мундир? Войдут и застанут голого…
Звуки ночи, каждый врозь и все вместе, шорох деревьев за стенами, шаги возле забора, удары крови в пылающий мозг – все громоздилось и тут же рушилось, давило на мозг, расширяя зрачки ужасом.
Время от времени кто-то приказывал громко и испуганно: «Не спи! Не имеешь права! Они уже здесь, они здесь!»
Почему сплю, когда еще ночь? Самые опасные часы суток, не имеешь права! Надо бежать к двери и держать, не впускать. И звать на помощь. Кого, кого? Как раз и позовешь убийц. Все цареубийцы, все! Куда Матрена всё подевала? В шкафу смотрел, нет! Голый, а они вот-вот… Войдут, вползут, прячась друг за дружку, тасуясь, как карты в руках ловкого шулера. Он, это он, мингрел проклятый, их держит, тасует – потные, волосатые руки. Очковая змея! У всех у заграничных тоже были пенсне. Знак, пароль у них, что ли, у этих английских, японских, польских шпионов?..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Алесь Адамович Каратели [litres] обложка книги](/books/410074/ales-adamovich-karateli-litres-cover.webp)

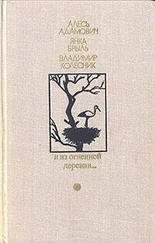

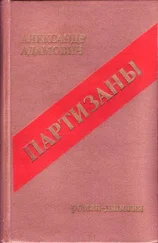
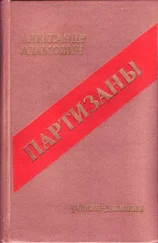



![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-thumb.webp)


