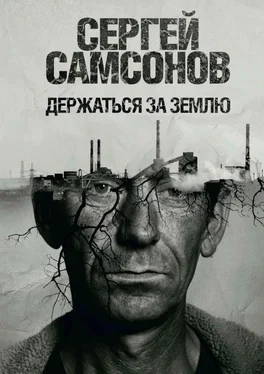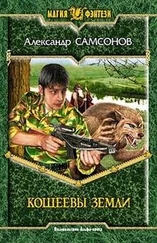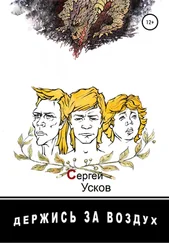Витьке в общем-то было без разницы, кто виноват. Это было, когда его не было, а теперь, когда он появился, значение имело только то, что отца рядом нет. Но однажды отец появился, ну то есть еще не отец, а какой-то мужик, вернее, «серьезный», «крутой»: только так можно было назвать человека, отлитого по мерке бронзовых героев видеопроката, — с развалистой, тяжелой и вместе с тем упружистой походкой, с валунами и плитами мускулов, образующих как бы броню на широком, большом костяке, с обесцвеченной челкой и в дымчатых, отражающих небо очках, с наколотой летучей мышью и буквами «ДРА» на плече, в красной майке-борцовке, пестрых джинсах-варенках и белых кроссовках. От него несло острым, ядовито-настойчивым духом загульного пьянства, коньяка, сигарет, поездных туалетов, бензина, неизвестных далеких путей и еще чем-то резким, будоражащим и притягательным — заразительным духом матерого, вольного зверя, ни к чему не привязанного и уже ничего не боящегося.
Какое-то время отец, должно быть, наблюдал за ним издалека, скрываясь под низкими ветками яблонь и ревниво отыскивая в его лице свои черты. И, только убедившись, что пацан «не машет на грузина», подозвал. Но с матерью он так и не сошелся: у него уже были другие жена и ребенок, да и физически был создан племенным жеребцом. Приезжал раз в три месяца с тяжеленным баулом игрушек и импортных шмоток, ночевал на балконе, один, оставлял в коридоре под зеркалом деньги и опять пропадал, иногда на полгода. Витька ждал его с жадностью и встречал с хищной радостью причащения к взрослой победительной жизни, к отцовским машинам, к оружию, к голым рукам. Отец наставлял и показывал, хватая Витьку то за верхнюю губу, то за кадык, от чего ноги тотчас подкашивались, в голове как бы прямо предсмертно темнело или боль вытесняла все прочие чувства. Он смотрел на отца, и в его голове уживались два чувства — что он, даже сам не желая того, со временем станет таким же и что не должен становиться таким, как отец. Не должен иметь много женщин и черт знает сколько детей, да и не в обиде на отца было дело — еще не умом, а смышленым нутром Витек догадался, что тот обречен.
Отец вернулся из Афгана в ощущении: ему все должны. Не за седину в двадцать лет и искалеченную душу, о которых запели с эстрады и по электричкам ветераны в тельняшках. Искалеченным он себя не сознавал — так, наверное, заматерелое, по породе живучее, сильное дерево не ведает, что выросло меж двух заборных прутьев и что возможно было вырасти иначе, безо преград, без надсады, не криво. Там, в Панджшерском ущелье, он воевал с горами, мертвым зноем и людьми, для которых убийство — простейшее телодвижение, с людьми, что утром улыбаются в лицо, а по ночам стреляют в спину, и вся здешняя, мирная жизнь — с ее расписанием троллейбусов, обилечиванием пассажиров и зарплатой за август — для него была скучной, совершенно лишенною вкуса игрой и пространством для сбора полагавшейся дани. Того, чем обычные, мирные люди оплачивали жизненные блага, просто не существовало в его, Рябовола, шкале, и поэтому он их даже не презирал. Все коммерсы должны были платить, все соски — давать, все быки — расступаться. Он брал свое голой, бесхитростной силой и той бестормозной, не рассуждающей жестокостью, что и внушает дикий страх так называемым нормальным людям. Им управлял разнузданный инстинкт: «Я выжил там — и значит, мне все можно».
Могучий его организм, натруженный и закаленный суровой борьбою за жизнь, растлился, загнил в мелких терках с «какою-то шушерой». Валерка Рябовол умел командовать «пехотой», работать по «вспышкам», по «туловищам», а «строить отношения» и договариваться — нет. Его убили где-то в Дагомысе, куда он поехал вымучивать дань с каких-то серьезных. Две пули в живот. Должно быть, он успел почуять только изумление, оттого что вот этот горячий железный удар мог разорвать ему живот и превратить все тело в воду только «там», где всесильное лютое солнце, бородатые духи и горы, а не здесь, где прохладный и гладкий, как шелк, ветерок, дискотечная музыка на «поплавке» и баюкающий монотонный плеск моря. А Лютов отучился девять классов и дождался своей неминучей войны…
В башке его словно сработал будильник. Всхрапнув, он стряхнул с себя тяжкий, прилипчивый сон, оплеснулся водой из бутылки, сунул в рот сигарету, опять включил радио и вырулил на трассу, ведущую в Луганск. На киевских частотах уже не было «протестующих» и «активистов» — они стали «зрадниками» и «загрозою цилисности батькивщины». Ну, значит, уже началось. Спецтехника, кунги, «уралы»… Есть в каждом народе такие — селитра, гранатный запал, голодный безработный молодняк с горячей кровью в жилах, распертые избытком силы пацаны, очумевшие от нищеты и от чувства бесплодно утекающей жизни. Молодых по всей жизни ведет безотчетная тяга к присвоению и обладанию, то есть прямо к войне. Это самое сильное чувство — отобрать у другого и присвоить себе. Сохранить для себя утоление жажды, вкус хлеба… Есть десяток-другой отвлекателей или, скажем, подобий войны: «зарабатывать больше других», у кого глаже баба и круче машина… Только в том-то и дело, что все дырки забиты, все делянки расхватаны. Все машины и бабы — у семнадцатилетних ублюдков «Газпрома» или здешней укра́инской «Нафты», а остальным — Валеркам Рябоволам — ни говна, ни ложки. Обязательно кто-то пошепчет над сдвинутыми головами: «Аллах любит воинов, нет большего праведника, чем убийца неверных», «Не может Украина стоять перед Россией на коленях» — и тихо так, внятно, на ушко: «Аллах дал нам денег: за офицера — двести баксов, за солдата — сто», «Возьми автомат и сам бери все, что захочешь». И в голове у хлопца ли, джигита ли все сразу по местам становится: так вот по какой единственной правде томилась душа, так вот что когтилось внутри и просилось на волю. И если такие ребята хоть раз испытали пьянящее чувство своей слитной силы и власти над чьими-то жизнями, то их уже не разделить и не рассорить, не удержать ни уговорами, ни страхом. Какие уж тут разговоры и страх, когда человек ощутил, что он как от Бога поставлен — решать, кому жить, кому нет?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу