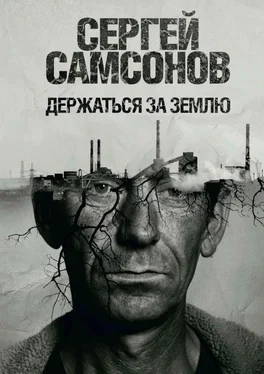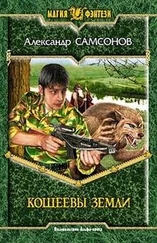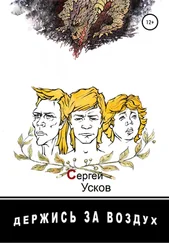И этот-то страх пополам с омерзением к своей назревающей немощи и снял его, Лютова, с места — бежать, взять в зубы своего новорожденного щенка и убежать, пока не обложили. Он видел свой грех и не ведал сомнения. Сел за руль с бодуна — виноват. Не увидел их вовремя — значит, убил. Оправдания не было. Он вообще никогда никому не искал оправдания. Не говорил себе, что «не хотел» и что таких убийц в России тридцать тысяч ежегодно, что такое могло с кем угодно случиться, что за эту вот жизнь, за невыросшего человека должен только два года свободы, что в российском УК — это верхний предел. Ведь если бы такое сделали его с ребенком, сам бы Лютов водителя на кардан намотал, и поэтому глупо ждать спроса по другому пределу, чем спросил бы с кого-то он сам. Он знал, что есть только прощение и непрощение. Очень многие люди «прощают» врагов не из нравственной силы, а просто потому, что бессильны наказать, то есть рабски встают на колени, называя свою травоядную слабость прощением, милосердием, Богом, любовью. Так им легче жить дальше. Если каждый такой безответный баран ближе к Богу, то зачем такой Бог? И почему такому Господу без разницы, что его овец режут?
Этот грех будет в нем, как зараза в крови, и Лютов за него вполне готов ответить, но ответить как волк, а не как повалившийся на бок баран. У него самого теперь сын — быть бараном он права уже не имеет, совсем.
Когда Смага повез его на своей старой «хонде» в роддом, поползли от мигалок, он увидел, как мать прорвалась к медицинской каталке и набросилась на запакованный маленький взгорок с рычащим «отдайте!» — и повалилась наземь так, что показалось: не шевельнется больше никогда.
А потом он увидел бескровную Вику с уже разгладившимся от надрывного, безобразного крика лицом и отрешенно-безмятежными глазами. В лежащих вдоль тела руках, в лице, во всем теле ее была успокоенность освобождения, счастливого опустошения, как будто обратная той, что была в тех двоих, и от этого Лютову сделалось выворачивающе тошно. Это был и не страх, а скорее давящее чувство отравления пущенным газом, угаром, и не только он сам был отравлен, но и Вика с детенышем. А потом медсестра провела его к боксу, и он увидел двух младенцев в каких-то прозрачных корытах. Одинаково сизые, даже как бы чугунные от прилива всей крови, цвета только что вынутого из огня, остывающего после горна железа. С бранчливо сморщенными личиками и мокрыми сосульками волос на головах, с заклеенными пластырем пупками и согнутыми ручками и ножками, напоминающими лапки саламандр. Ну и который же из них — его, в котором из двух его кровь? Лютов вглядывался сквозь стекло и не сразу приметил, что пипка только у одного. А, ну да, у него же пацан. Вот — его!
Странно это, но Лютов испытал неприязнь. Отчуждение. Он был так слаб и жалок, что эта-то малость и жалкость и давала немедленное понимание, насколько ты нужен ему ; давала понимание: ты должен, отдельно тебя уже нет, с этой самой минуты для себя самого ты не главный. Лютов сделался слаб, у него появилось уязвимое место — совершенно отдельная, незащищенная часть его существа, — и теперь каждый шаг его будет с оглядкой на этот кусок, червяка, воробья: как бы с ним что не сделалось, как бы он без тебя не остался.
Сам Лютов вырос без отца, хотя в память его, как алмазом в стекло, были врезаны беспощадно-пустые голубые глаза и каленый оскал того яростного, распертого здоровьем и силой мужика, и отец научил его многому. Или, может быть, главному. Куда надо бить, чтобы сразу человека сломать. «Запомни, пацан, делай так страшно, чтобы все сразу видели, кто ты. Задний врубишь — все сразу поймут, что душою ты тварь и тебя можно раком нагнуть».
Отец был героем-разведчиком и получил секретное задание отправиться в далекую гористую страну. В той стране все мешало возвращению отца к Витьке с матерью: добела раскаленное солнце, перевалы, песчаные бури, снега, скорпионы, тарантулы, змеи, кишлаки, люди, духи… Витька верил в легенду так истово, что она оказалась почти сущей правдой: Валерка Рябовол был призван в армию и угодил в Афганистан. Отказываться было как-то западло, тем более ему, Валерке Рябоволу. Мать слала телеграммы и письма в далекий Ташкент: я теперь не одна, у тебя теперь вот кто. «Иди на … на котором сидела до меня и после меня!» — проорал Рябовол в тугоухую трубку из ташкентского аэропорта перед вылетом в будничную преисподнюю. Мать сама виновата, говорил он потом. Рядом с ней появился грузин с белой «волгой», самодержец подпольных теплиц и цветочных киосков центрального рынка, и не стоило матери говорить Рябоволу, пэтэушнику, сварщику: «Ты есть никто».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу