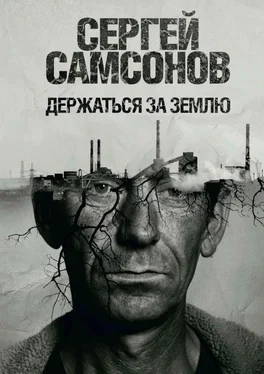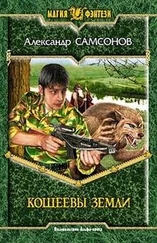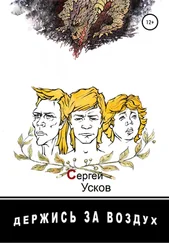В уходивших под землю шахтерских домишках, в первобытных, кайлом и лопатой разработанных копанках, в затравевших дворах и панельных хрущевках родного его Кумачова никакого уродства как будто и не было. Уродство возникало на контрасте — на охраняемых границах таунхаусов и заросших бурьяном черноземных полей, покривившихся хат, неподвижных шкивов. Уродством было строить для себя одно, а для народонаселения — другое, «ничего», что-нибудь из остатков, из мусора своего новостроя.
Мизгирев понимал, что ударился в пошлый марксизм, но теперь уж во что ни ударься — все едино придется расхлебывать и барахтаться в «этом», с каждым громким хлопком крупно вздрагивать и рывком поворачивать голову на восставший Восток. Дело было уже не марксизме, а в том, что нормальной, человеческой жизни не будет. Без Донбасса — натруженной правой руки, сердца, печени, костного мозга — никакого бюджета уже не скроить.
Чем они только думали, эти и. о., когда проехались по перемятому подземной каторгой народу своим великоукраинским колесом: «Никому не смять вякать по-русски!», «Молчать!»? Нахрена корчевать из земли всех гранитных солдат и чугунные звезды? Человек может жить подголадывая, но нельзя говорить ему, что его мать — свинья, а язык — главный признак потомственных недолюдей, чей удел — ползать на четвереньках и вылизывать миски хозяев. Сами подняли этот покладистый молчаливый народ на угрюмые русские марши. Сами им показали блевотную свастику, полоумные остекленелые зенки киношных фашистов, поджигавших амбары с детьми. Сами заворотили им головы в сторону великанской России, матерински дохнувшей навстречу: «Сынки! Кто напал, кто обидел? Мои вы! Я от вас никогда не отказывалась! Попроситесь ко мне! Охраню!» Сами выдавили из земли тридцать тысяч горбатых на дебильный мятеж, а теперь захрипели: «Измена! Разрывают страну! Подавить!»
Мудаки? Идиоты? Маньяки? Бесчувственные реалисты, зажатые в тисках необходимости? Им теперь в самом деле, пожалуй, невозможно быть добрыми. Взлетели в верховную власть на бешеной горелке чистого нацизма, а теперь объявить: «Все мы — братья»? Нет, на эту вот псарню придется все время подбрасывать мясо, попытаешься притормозить — загрызут. Страна начала расползаться — словами уже не срастить. Придется сшивать на живую, гвоздить. Иначе никого под землю не загонишь. Власть — это невозможность никого жалеть. Или все эти новые люди устроены, как газонокосилки, очистные комбайны, скребковый конвейер: наконец дорвались и гребут, погрызают бесхозные угленосные торты, отжимают имущество прежней президентской «семьи», а потом хоть трава не расти? Вообще выполняют сторонний заказ, нанялись за распил европейских кредитов — американцы посмотрели: так, ага, нищета в регионах, коррупция, кучка богатых, полтора миллиона националистов — отсюда подожжем Россию?..
Двадцатого апреля Мизгирева вызвал Сыч. Внеурочно и экстренно, не пойми для чего. Мизгирев передернулся, допустив на секунду: подслушали! — словно можно подслушать не только разговоры и хохот за стенкой, но еще и крамольные мысли, текущие в черепе. Может, чуют: чужой? Никогда он не станет для этих арийцев своим, ведь и вправду о них «плохо думает», да и если б не думал никак, запретил сам себе, разучился бы думать, притворился бы проводом, поломоечной тряпкой, прокладкой, все равно бы никто не забыл, что он родом «оттуда», из русских.
— Ты, Вадим, ведь с Донбасса? — без приглашения садиться и не вскинув натруженных глаз от бумаг, начал Сыч, и у замершего Мизгирева готовно и как будто бы даже обрадованно дрогнуло сердце: вот и кончилось всё, лучше так, чем все время томиться и вздрагивать от внезапных звонков.
— Ну как бы да. Мы с вами с этого и начинали. — Не стал пищать: «Но я же вроде все решил, дал наверх сколько надо. Если надо еще, вы скажите, я дам».
— И лопатой работал на шахте? — с непонятной улыбкой спросил его Сыч. — Ты садись.
— Было дело. Пришлось.
Даже кости на миг заломило, как вспомнил: пятый курс, месяц практики низовым ГРП. Упрешься в вагонетку с кем-нибудь на пару, ощущая, как рвется что-то в самом низу живота, кожа лопается на лице и над сердцем, и покатишь ее под загрузку. А наутро с кровати не встать — как камнями избит, но по опыту знаешь, что это продлится лишь до первых отмашек лопатой, а от новых рывков вся свинцовая боль в твоем теле расплавится, понемногу стечет…
— Ну вот, — одобрил Сыч. — Выйдешь к людям и скажешь: я работал лопатой. В общем, мы одной крови.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу