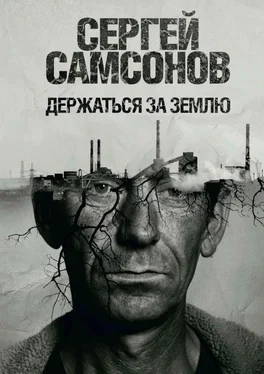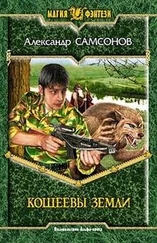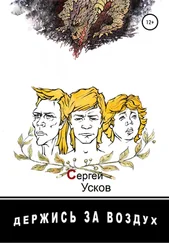— О! О! О! Вскипятился! Ты чего, Коля-Коля?! Покусаешь сейчас — сами станем как бешеные. Ты не бойся, придем как-нибудь. Куда мы денемся с подводной лодки?! — шутники Деркача заверяют.
Да и что заверять — взбудоражен народ, каждый шарит глазами вокруг, чисто как подзаборная рвань, у кого попросить а бутылку. Это в лаве, под горным давлением, было ясно, куда выбираться, тело знало само, где заветный куток, и готово в него было вжаться, словно в собственный оттиск. Ну а тут, на-горах, прямо чувство сиротства: кто же им всем расскажет, как жить и на что опереться? Крым-то вон откололся — под защитой теперь, да еще под какою защитой! Черноморского флота России! Тут хоть всей требухой извернись в хриплом лае: «Отдай! Не замай!», ядовитой слюной изойди на нее, на Россию, все равно Крым назад не возьмешь.
— А чего же? Подвалит народ, раз такое!..
— Ну а кто говорить будет? Тесто?! Сю-сю-сю, соблюдаем порядок, ждем, когда нас за жопу возьмут?! Соберемся, допустим, а смысл?! Коля-Коля! Говорить будет кто?!
— А все, кого знаете! Расковалов! Горыня! Гурфинкель! Рябо-вол, главный мент! Человек из Луганска приедет! Толковый!.. — окреп в напоре голос Деркача, как нарастает рык берущего крутую гору вездехода.
— Это что же там за человек?! От кого приезжает? Кого представляет?
— А кого тебе надо?! — отвечал Коля-Коля. — Губернатора? Мэра? Или, может, Донбасскую трудовую колонию? Эти к нам не приедут — другие заботы у них… Представляет таких же, как мы! Или ты полагаешь, Семак, мы одни за права свои выйдем и заставим услышать себя — без больших городов? Никакой нам поддержки не надо?!.
В переполненной клети — молчание, а ступили на грунт, расползлись по забоям, по штрекам — опять разговоры: Крым, Россия, а мы посередке, Крым, Россия, а мы — как то самое в проруби. Словно кто, как алмазным резцом по стеклу, прочертил в мозгу каждого направление мысли — к России. Было в этом порыве что-то от неосознанно-темного чувства сиротства или, может, надежды на старшего брата: прислониться к огромности, силе России, как будто этой силой и огромностью затмевается и заменяется все остальное, вся неладность устройства внутри. Так фантомной, наверное, болью тоскуешь по отнятой у тебя части тела, с той только разницей, что этою оторванной рукой или ногой была Донетчина, а не Россия, и руке было все равно, что у тела, с которым ее разлучили, много собственных внутренних хворей. Зародившийся в Киеве морок разбудил, возродил, обострил эту боль. В истории болезни того единого народа было всякое: революция, войны, продразверстка, коллективизация, голод, от которых страдали равно украинцы и русские… было даже как будто и общее выздоровление, ну победа над немцами точно была… А потом показалось, что поврозь будет лучше и тем и другим. Но не вышло разрезать этот самый единый народ, как медузу ножом: самостийный и цельный живой организм из куска «Украина» не вырос. Может быть, просто резали не по тем областям и не тех отхватили и не к тем и не так по живому пришили?
Зря мы тихо сидели так долго, рассуждал Сенька Лихо. Эти в Киеве свой Майдан сделали — вот и нам надо было сразу свой подымать. А мы — прав Коля-Коля — под землей все сидели, как слепые кроты. Как бы только не вышло чего — без зарплат не остаться. Так сейчас надо встать и сказать: мы вам зла не хотим, никогда не желали, жили ж мы как-то с вами в стране двадцать лет. Но уж если вы нас за людей не считаете, то и мы вас не будем. Вы с этой своей правдой живите у себя, там у вас свои шахты, посевная, уборочная, а сюда к нам не суйтесь. Ну а если полезете к нам на Донетчину — мол, она тоже ваша, а мы так, сорняки, — то тогда уже, хлопчики, не обижайтесь: окончательно с вами порвем, да еще и здоровье вам всем поломаем.
И казалось Вальку: все вокруг солидарны в готовности «рвать», что от дерзостных мыслей о неподчинении у людей леденеют виски, нагоняющим время курьерским грохочет весомое сердце и тугие горячие волны ликующей крови гуляют по телу. Правда, был еще каменно-смурый Никифорыч, безулыбчивый мудрый старик: тот давно все сказал и молчал, даже не шевелился, словно голову взяли в тиски, а на плечи, хребет налегла гробовая плита, и по складкам, буграм сосредоточенно-бесплодного раздумья на его лице он, Валек, как по азбучным буквам, читал его мысли: эх, легко тебе, малый, сказать: «Будем рвать». Словно рвать по Днепру или как-то еще — это не по живому, не больно, не порвутся все жилы, по которым гнала Украина единую кровь, словно и не по людям пройдет тот разрыв, не по их городам и делянкам. Жрать-то что будешь — уголь?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу