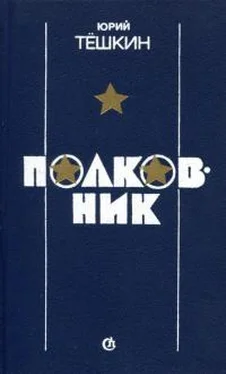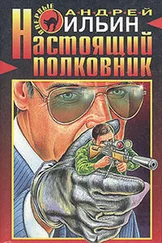Иван Федорович в конце коридора остановился, подошел к зеркалу. И отшатнулся — наконец-то разглядел он то, что до сих пор находили у него на лице врачи лишь под сильным микроскопом: серые безжизненные точки. Он не смог бы их описать. Основным их свойством была заметно меньшая температура по сравнению с окружающей тканью. От этого возникало неприятное чувство рассеянного пульверизатора, направленного постоянно на лицо.
Опираясь руками на подоконник, он задумался, глядит в окно, вспоминает сон, покончивший с последними сомнениями. Там кто-то, словно верша высшую справедливость, позволил Ивану Федоровичу дожить все то, что как бы Ивану Федоровичу и принадлежало. Причем, посади Ивана Федоровича с листом бумаги, заставь пофантазировать, додумать, домыслить, дописать свою жизнь до последней страницы, как думал бы прожить ее, чего еще добиться в оставшиеся (из расчета средней продолжительности лет в семьдесят) годы, — ведь не сумел бы Иван Федорович так описать, как в этом сне, где прожил он ее всю до конца. Так ярко, так подробно, но главное, что подтверждало реальность, было неожиданное ощущение, о котором Иван Федорович, будучи человеком средних лет, не подозревал, да и не мог подозревать. Осадок усталости от жизни, естественным путем приведшей к старости и дряхлости. Когда все выполнено уже, достигнуто все, собственному делу дано продолжение, в надежных руках оно. Когда назад уже оглядываешься: все ли сделано как надо, до конца ли, все ли прибрано за собой. И с удовлетворением думаешь: «Ну вот — пора, видно, и на покой».
Вот этот осадок усталости, о котором Иван Федорович и вообразить не мог бы, дописывая самостоятельно свою жизнь, и убедил его в том, что он действительно ее прожил, всю эту длинную, яркую свою жизнь. По-настоящему, со всем, что было ему предназначено, со всеми ощущениями, какие могли бы быть, проживи он ее наяву, на самом деле, а не во сне. Вся то разница лишь в том, что только прожил он ее как бы в сильно сжатые сроки. Но там, где был Иван Федорович, земное круглое время не имеет силы. Он жил там года и десятилетия, съел и выпил то, что здесь на земле съел бы и выпил за десятилетия. И столько же и любил, и страдал, терял и вновь обретал, прожил до старческой усталости. А за это время по круглому будильнику прошло минут десять всего, пятнадцать, как раз то время, что прикорнул Иван Федорович после обеда в кресле-качалке с газетой на коленях. Вернее, Иван Федорович сначала прислушивался к сердцебиениям, возникавшим теперь вдруг без всякого повода, а потом и задремал в кресле-качалке.
Да и сейчас, у окна стоя, мизерной частью сознания следя за ударами сердца, главной же сутью своею оставался он по-прежнему там еще, где можно какой-то непостижимой силою растягивать минуты на года, а час — почти до бесконечности. И сам этою же силою продолжает расти теперь, распространяться во все стороны, как газ в сосуде, лишенном вдруг стен, заполняя пространство во все стороны. Так и душа его сейчас пытается заполнить Вселенную, чтобы упиваться силою, порожденной Великим Спокойствием. Ибо сила в покое — это надо знать. Как Илья Муромец, просидевший в покое тридцать три года, накопил великую силу. Так и сейчас эта сила копится в Иване Федоровиче, уже творя чудеса, достраивая в его здании этажи и балконы, прекрасные сады и водопады… где мягко катят дилижансы, отбивают веселую мелодию старинные часы, и вот-вот уже мелькнет средь вековых дубов белое платье любимой и желанной женщины. Имя которой — истина.
…Там живописно благоухают сады и брызги водопадов долетают до твоего лица, там мягко катят дилижансы и отбивают веселую мелодию старинные часы. Душа там принимает наконец свой первоначальный вселенский облик — там движется она, поглощает пищу, играет, развлекается с женщинами, или ездой верхом, или беседами с друзьями, не вспоминая о рожденном теле. Как вьючное животное запряжено в повозку, так и твое бессмертное дыхание запряжено в тело. Поистине смертно это тело. Смерть держит его, однако ж оно обиталище бессмертной души. А потому никак нельзя презирать его, раньше срока отказываться… это надо, понять…
И вот берет он со светло-коричневого подоконника первую спичку, начинает считать шаги по коридору: «Один, два, три… — пускай себе идет: может быть, и это зачем-то нужно, ведь никогда нельзя ни о чем ничего сказать заранее. — Четыре… пять…» А ты, счастливый, легкий и свободный, среди вековых дубов, где мягко катят по тенистым аллеям дилижансы, ты весь в предчувствии восхитительного момента — вот-вот мелькнет белое платье любимой женщины. Ты уже слышишь звон браслетов на ее руках, и легкие шаги, и волнующие звуки: «Ау, ау! Где ты?! Где ты?!»
Читать дальше