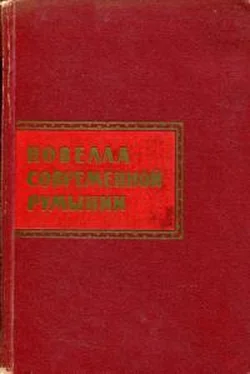— Здешняя жизнь уже не для меня.
— Почему же это?
— Ты сам хорошо знаешь.
— Не знаю.
Джену перестал есть и, не сводя глаз с Иона, говорил грубовато, как будто внезапно озлобившись. Иону показалось, что ему ясна причина неожиданной резкости друга, и он сказал:
— Нет, знаешь. Ведь я убил Альберта. Люди меня не простят. Румыны, может, и не будут об этом так уж много думать. Но венгры не простят мне никак.
— Все тебя простили.
— Нет, не простили. Невозможно, чтобы простили все.
— Ты за свой грех поплатился.
— Как я за него поплатился? Ведь Альберт не ожил!
— Ты думаешь, кто-то еще помышляет о мести? Тебе кто-нибудь угрожал? Показывал на тебя пальцем на дороге?
— Нет.
И Ион Кирилэ поразился тому, что это правда и что это не пришло ему в голову раньше. Но эта правда все же не могла его обрадовать именно потому, что он и не ожидал ничего такого, о чем говорил Джену. И если даже поверить этой правде, то ее все-таки недостаточно: пока хоть один-единственный человек может смотреть на него с подозрением, пока существует хоть неодушевленный предмет — дом Альберта, или колодец на перекрестке, или даже это имя — Альберт, которое носят столько людей, он не в состоянии поверить, что все окончательно забыто. Возможно, люди примирятся с ним, но в их душе останется след, и кто изгладит его? Только Марика может изгладить этот след, но Марика больше не хочет идти за ним. Опасаясь, чтобы друг не разгадал его мысли, он заговорил:
— Ведь я тебе рассказал, как было с Пети Ковачом, — он и не взглянул на меня. И по дороге, когда я шел к дому, все выходили и здоровались со мной, только Ковачи не вышли, и из венгров со мной говорят одни Сабо; они в родстве с Яни Надь, а с Ковачами не ладят.
— И цветы не все сразу расцветают.
— Вот именно.
— Привыкнут к тебе и Ковачи. Войдешь в колсельхоз, займешься делом, как все, и будешь жить.
— Без Марики?!
На этот раз он уже твердо знал, что лишь обольщался, надеясь, что она может решить его судьбу.
— О Марике ты больше не можешь думать. У нее муж и дети.
— Без нее я жить не могу.
Если бы он мог сказать чистую правду, то признался бы: «Раз и она не прощает меня, то как я могу поверить, что простили другие?» Но он предпочитал лгать, ибо надеялся, что эта ложь укроет его даже от самого себя.
— Почему не можешь? Живут люди и без глаз, и без рук, и без ног.
— Живут, да! — крикнул, потеряв самообладание, Ион. — Но как живут? Я не хочу жить, как слепой или калека. У меня еще столько сил, что я гору своротить могу, но для кого мне работать?
— Сперва будешь работать для самого себя. Потом женишься, заведешь детей. Будешь и ты счастлив, как сумеешь.
— Да! Счастлив… Как слепой с кружкой, в которую бросают гроши. — И он испугался, что правда вышла наружу. Он боялся жалости других и своей жалости к самому себе, которая превратит его жизнь в открытую рану. Сердясь на себя, он прибавил:
— Постарел ты, — вот и стал очень умный.
И засмеялся нервно, зло; ему стало противно, что друг наговорил ему глупостей, а он сидит и безвольно слушает его.
Джену Пэдурян, который выпил не меньше Иона, потеряв терпение, крикнул:
— Марика да Марика!.. Свет клином сошелся на Марике!.. Если нет ее, то уже больше нет ни солнца, ни жизни. Да с нею-то ты говорил?
— Говорил.
— И что она сказала?
— То же, что и ты. Что у нее муж и дети.
— Так чего же ты хочешь? Чтоб она бросила дом?
— Пусть бросит.
— Этого нельзя.
— Нет, можно. Она меня и теперь любит.
— Один раз поговорив с женщиной, не узнаешь, что у нее на душе.
— Узнаешь. Она вся дрожала, когда говорила, и смотрела на меня, глаз отвести не могла.
— Может, она тебя еще любит, ничего не скажу. Любовь — это не ветер, который пронесся над лесом, и следа не оставил. Но она не бросит дом и детей, теперь ей уже не семнадцать лет.
— Надо бросить. А детей она может взять с собой.
— Не может. Закон не отдаст ей детей.
— Не знаю. Не хочу больше знать. Не хочу больше думать, потому что если стану думать, то сойду с ума.
— Ты, Ион, думаешь только о себе, вот что худо. Ты видишь только свое счастье и полагаешь, что ничего другого не должно быть на свете. Но Марике без детей не может быть хорошо, а значит, и тебе тоже. И ее мужу жизнь сломаешь. И люди рассердятся; поднимется недовольство, его не так-то легко успокоить. Слишком дорого стоило бы это твое счастье, которое даже и не будет счастьем: слишком многие поплатились бы за него.
Они оба устало молчали. Стемнело. Сусана забилась в угол и, сидя на лавке, тихонько плакала. Для нее все было ясно, и она больше ни о чем не думала. Как бы ни сложилось все дальше, Ион навсегда останется несчастным: он уже не найдет покоя, и ему тяжко будет жить; ведь его, как проклятье, преследует грех. Подавленная горем, старуха сидела неподвижно, позабыв зажечь лампу, но никому и не нужен был свет.
Читать дальше