На мне лежала вина и одновременно ответственность за Миллисент и Илайджу. Я не мог объяснить своих чувств к ним или к кому-либо еще. Но хотя затруднение, из-за которого я стал посещать тайные «нумера» на Уолл-стрит, отнимало у меня кучу времени и сил, Миллисент Де Фрейн и Илайджа теперь стали если и не вытеснять мою первую «привязанность» или «привычку», то занимать, несомненно, очень большое место в моих мыслях.
Я отправился на квартиру Миллисент на Пятой авеню, но швейцар стал настойчиво уверять, что она уехала из страны. Я солгал ему, сказав, что она только что мне звонила, поэтому он довольно сконфуженно посадил меня в лифт с панелями цвета слоновой кости и зеленым узором из какаду. Поднявшись на третий этаж, я столкнулся на выходе с Норой.
— Мисс Де Фрейн вас не ждет, Пеггс, — громко сказала Нора, удерживая дверь лифта открытой, чтобы я мог снова туда войти и спуститься.
— Я не желаю видеть дезертиров, предателей и обманщиков! — Голос Миллисент повысился, почти неузнаваемый в ярости. — Выпроводи его. Я пришлю ему свой чек…
Я решительно прошагал в комнату, откуда доносился голос. Из-за ревматизма она выглядела очень скверно и сидела в какой-то пестрой шали, которая ей совсем не шла.
— Я не позволю вам избавиться от меня, как вы избавились от других своих поверенных джентльменов, — сказал я и сел у ее пуфика.
— Видимо, я у всех вызываю желание хамить, — произнесла она.
— Досадно, что вы не всегда носите меха. Шаль не располагает к беззаботности…
Прежде чем ответить, Миллисент обратила внимание, что Нора все еще стоит на пороге приемной, или, как она называла ее, «гостевой».
— Можете идти по своим делам, Нора. Мистеру Пеггсу нужно кое о чем поговорить…
И тут она принялась меня распекать — обвинила во всех мыслимых проступках, неудачах, злодействах и подлостях, так что я определенно почувствовал себя ее кровным родственником. Такой жестокой могла быть со мной лишь мать. В конце концов, я очень горько зарыдал, и это принесло большое удовольствие и облегчение нам обоим.
— Я никогда не прощу тебе, что ты не отправился со мной за решетку. Скажем так: это самое меньшее, что ты мог сделать.
Я рассказал о грабителе, унесшем мою одежду, полностью обнажив меня, и объяснил, что только из-за этого полиция была бы со мной весьма сурова.
— Отговорки, мой дорогой, уловки.
Дворецкий принес ей меха, и она наложила на щеки густую белую пудру.
— Я нашла еще одну из тех записочек, которые, как я предполагаю, ты пишешь самому себе, — сказала она, придав себе более представительный вид, — и она тронула меня так же, как первая. Если б я только могла выбить у тебя из головы мысль о том, что мне нужно твое тело! Оно нужно мне на небесах, а не здесь… Но вернемся к записке — вот она.
Миллисент достала тяжелый позолоченный лорнет с купидонами с одного бока и прочитала:
— «Благодаря моему знакомству с Миллисент Де Фрейн и Илайджей Трашем, я отдалился от других людей. После того, как я окончательно был допущен к величавому обществу сих блистательных особ, моя прежняя жизнь и карьера полностью завершились, и я вступил… в общем, в нечто такое, что не под силу описать ни одному смертному».
— Я тогда же решила поцеловать тебя в губы, — она рассматривала их с тем злобным вниманием, которое я замечал только у врачей. — Подойди.
Я опустился на колени между ее серыми атласными домашними туфлями, и она припала ртом к моим губам. Язык ее, по силе и шершавости напоминавший коровий, исследовал внутреннюю сторону моих щек, язык и каждый зуб.
— У тебя прекрасное здоровье! — воскликнула она, наконец отстранившись. — Мы продолжим сотрудничество, Альберт. Я разжаловала тебя, но из-за твоей смелости все же оставлю на службе. Однако я хочу, чтобы ты предал Илайджу так же, как он предал меня. А теперь встань, пожалуйста, и выйди из комнаты.
— Я не желаю видеть этого жалкого отступника, можешь пойти и выгнать его вон! — сказал Илайджа Юджину Белами, объявившему о моем приходе. — Скажи ему, Юджин: он ябедник, вероломный, как вода и как леденец от первого встречного… Разгуливает с одной вечеринки на другую, повторяя эту клевету, подогревая этот старинный навет, раня там, бередя старую рану здесь, сыпля на нее соль и всегда прикидываясь сущим ангелочком, хотя он и утверждает, что уже стал зрелым мужчиной. Скажи, пусть возвращается туда, где ему намажут хлеб маслом толщиной с палец… И я имею в виду не Алабаму. Пусть старуха Миллисент сожрет его заживо — мне плевать…
Читать дальше
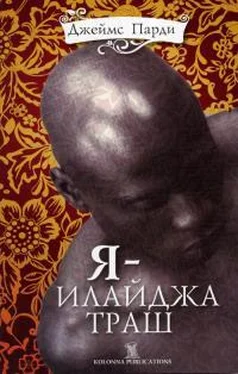




![Кэтрин Парди - Луна костяной волшебницы [litres]](/books/433628/ketrin-pardi-luna-kostyanoj-volshebnicy-litres-thumb.webp)

