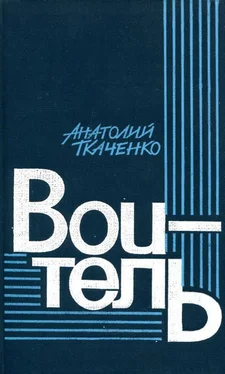Никогда, Аверьян, я столько не думал, как в этих церковных стенах, потом говорил даже: человеку полезно побыть взаперти. Без книг, бумаги, пера, газет — наедине со своей совестью. Нет, верующим я не стал, но толстовские слова: обратитесь к Богу или к своей совести, что одно и то же, — понял наконец, совесть и есть высшее божество в нас.
Здесь же я обратился к тебе, Аверьян, — помнить всегда помнил, вернее, чувство тебя носил в себе, — обдумал твою жизнь впервые. Прожитую у нас, конечно. Вник в каждое твое слово, запавшее в душу, каждый твой поступок. Увидел тебя всего, «объемно», так сказать. И уверовал, что ты жив.
Что еще было? Да, вот это. Сын Василий, смастерив с друзьями лестницу, влез по церковной стене до открытого окна, бросил мне сверток с едой и записку от Сергея Гулакова: «Отдыхай, Николай Степанович, у Бога за пазухой, ты это заслужил, а мы тут в грешном миру неусыпно молимся за тебя и, с божьей помощью, постараемся кое-кого уличить в грехах тяжких. Так что — аминь, и обнимаем тебя!» В друзьях-антитарниках я не сомневался, они не запугаются, не смирятся. А вот что Василий сам, по собственной воле меня навестил да еще просился: «Папа, можно я с тобой буду сидеть?» — осчастливило меня несказанно. Не удалось, значит, Алевтине, другим недругам восстановить сына против отца. А дочь, что же, ее жаль, но она всегда была ближе к матери, и зачем их ссорить? Дитя без матери сирота, мать без дитя — вдвое. Поделим по справедливости. Вернее, по выбору самих детей.
Была осень восьмидесятого года.
Далее события развивались, «как в кино», скажет позже Сергей Гулаков, то есть замелькали ускоренными кадрами. Устав бороться с мосинцами на месте, в тесном общении, рассылать жалобы по инстанциям, он полетел в краевой центр и лично встретился с тезкой Кондратюком. Разговор был хоть и дружеский, но резкий. Сергей-учитель обвинил Сергея-журналиста в самых обидных для человека конца двадцатого столетия грехах: нечуткости, верхоглядстве, эгоизме, наплевательском отношении к судьбам других людей («Ни разу по телефону толком не выслушал, все шуточки, анекдотики, отговорки, а там человек погибает!..) и вручил ему статью, написанную собственноручно, со всеми последними фактами из жизни тарного комбината и Села, потребовал напечатать, иначе он, Гулаков то есть, не вернется вообще в эту мосинскую вотчину, или, напротив, поедет и застрелит Мосина, как зверя, в его кабинете-берлоге… Вечером за столиком ресторана «Дальний Восток» опечаленный Кондратюк расчувствовался, всплакнул даже, вспомнив свой блестящий наезд в наше Село, милую Анюту, с которой он обошелся не совсем по-джентльменски, и пообещал обговорить статейку где надо, продвинуть. («Старик! У тебя великий талант убеждения, образно так, емко… педагог, Ушинский!») И как в кино, опять же, на шестой день пребывания Гулакова в городе краевая газета напечатала… нет, не статью, всего лишь небольшую заметку, но в ней было сказано главное: что тарный комбинат продолжает затовариваться; что есть отдельные случаи уничтожения излишней тары; что противник затоваривания, председатель сельсовета, подвергается гонениям, его считают чуть ли не сумасшедшим… и несколько общих обязательных слов об успехах тружеников села, области, края, на фоне которых вышеизложенное выглядит хоть и единичным, однако досадным фактом самоуправства кое-каких местных руководителей.
Закупив десятка три экземпляров газеты с этой заметкой, Гулаков через несколько часов, сделав две удачных пересадки по авиамаршруту, утренней «Аннушкой» прибыл в Село и сразу же ринулся к антитарникам; вскоре они раздавали газету «сочувствующим» сельчанам, а Богатиков взялся распространить ее на комбинате.
В обеденный перерыв почти все Село собралось у церкви. Перепуганный Стрижнов бегал перед толпой, придерживая расстегнутую кобуру, отказывался выпускать «больного», угрожая последствиями, требовал предписания вышестоящих органов, но его все-таки принудили открыть церковь, вручив тут же составленную и многими подписанную бумагу, в которой говорилось, что с него, милиционера Стрижнова, снимается ответственность за вверенный ему пост. Более всего, пожалуй, удивили и обескуражили милиционера мосинцы: их виделось немало в толпе, однако они молча наблюдали это стихийное насилие.
Ну, и было явление, Аверьян… председателя сельсовета народу. Трогательное до умопомрачения. Рукоплескания, музыка ансамбля «Таежные ребята» — выходной марш и туш, приветственные возгласы… И меня — это уж было ни к чему — подхватили на руки, понесли по главной улице Села к сельсовету, усадили за председательский стол — обросшего трехнедельной щетиной, нечесаного, без брючного ремня и шнурков в полуботинках… До крайности растерянного, конечно.
Читать дальше